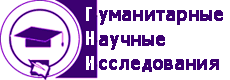Работа выполнена по гранту РГНФ № 15-04-00229.
I
В исследовательской литературе анализ такой темы до сих пор не предпринимался, учения упомянутых философов рассматривались либо по отдельности, либо в рамках направлений мысли, к которым их творчество традиционно причисляют. Между тем, типологизация направлений русской религиозно-философской мысли XIX – нач. XXI вв. по критерию обращения мыслителей к святоотеческому наследию позволяет систематизировать изучение мотивации, философского смысла обращения к учениям святоотеческой традиции, события встречи с ней, а также заключить о причинах отсутствия такой встречи у других религиозных философов, разделить творчество религиозных философов по новому основанию, выделив две группы религиозных мыслителей. Таким образом, типологизация способствует систематизированному рассмотрению указанной тематики.
Актуальность рассмотрения обращения к святоотеческому наследию русских религиозных философов определяется значимостью проблематики для решения таких вопросов как дальнейшая разработка религиозной философии, углубление религиозно-философского самосознания, философское осмысление культурной идентичности, поиск путей преодоления кризисных явлений в современной культуре.
Соответственно целью статьи является обсуждение проблематики русской религиозно-философской мысли ХIХ-ХХI вв., в аспекте типологии, предусматривающей выделение направлений мысли, в которых опираются на учения святоотеческой традиции, либо руководствующиеся логикой, не приводящей к интеграции в религиозно-философский дискурс вышеупомянутой традиции.
Упомянутые группы в русской религиозной философии, в сущности, определены различными интерпретациями соотношения западно-христианского и восточно-христианского идейного наследия, в которых в одном случае на первом плане оказываются общехристианские черты, во втором – особенные. Обращение к святоотеческому богословию значимо не только само по себе, но и в плане сопоставления богословских парадигм христианского запада и востока, раскрывающего своеобразие путей развития теологической и богословской мысли. Такой подход позволяет увидеть черты своеобразия христианской мысли запада и востока.
Представители первой группы включают в религиозную философию святоотеческие учения (учение о цельном знании у И.В. Киреевского; трактовка структуры святоотеческой традиции как христианского эллинизма, в которой подчёркивается синтетический аспект, акцентирование синтетического характера византийской образованности у Г.В. Флоровского учение энергийной антропологии у С.С. Хоружего); всё это примеры актуализации святоотеческих учений в контексте религиозно-философского дискурса.
Представители второй не придают святоотеческим учениям существенного значения в религиозно-философском дискурсе. Эти авторы не находят оснований для интеграции в религиозно-философские построения святоотеческих учений, полагая, что учения византийской православной святоотеческой традиции не имеют существенного значения для религиозно-философского дискурса. Правда, в этом случае велик риск, что религиозно-философский дискурс утратит реальную конфессиональную определённость (при возможном сохранении номинальной конфессиональной принадлежности).
Но, имеет ли конфессиональная принадлежность значение для религиозно-философского дискурса? В том случае, когда речь идёт о целом религиозно-философского дискурса то, несомненно, имеет значение. Дело в том, что в религиозно-философском дискурсе условно могут быть выделены два типа содержательных проблем.
К первому типу относятся проблемы, связанные с рассмотрением соотношения дискурсов религиозно-философского и безрелигиозного, по отношению к этому вопросу представители различных религиозно-философских позиций и конфессий по определению придерживаются единого подхода.
Ко второму типу относятся проблемы внутри религиозные, в частности, связанные с осмыслением конфессиональных разделений в христианстве. Здесь на первом плане оказываются известные догматические и обрядовые различия, особенности опытного восточно-христианского богословия и западно-христианской схоластической теологии (католическая мистика и протестантское богословие в своих истоках были реакцией на схоластическую теологию и в этом смысле были связаны с последней по типу диалектических отрицаний).
Разумеется, говоря о западно-христианской и восточно-христианской традициях, в том числе и о типах богословия, следует сказать и о том общем, что им присуще – это общие черты христианского вероучения и христианско-эллинские синтетические конструкции, в которых, однако, синтез был осуществлен различным образом и по форме, и в плане содержания сочетаемых компонентов. Здесь можно указать на синтез философии и богословия в схоластике и на синтетическое же учение о науках внешних и внутренней в восточно-христианском богословии. Однако сразу же укажем и на формальные и содержательные различия этих синтезов. Прежде всего, эти синтезы занимали различное место в общем строе указанных богословских традиций. Если в первом случае синтетическое учение о науках внешних и внутренней вовсе не было стержневым и центральным в общем строе богословского дискурса, то во втором случае это был центральный двукомпонентный синтез с отчётливым выделением философии из всего строя античной мысли.
Если в схоластической мысли по мере накопления опыта творческого самоопределения философского разума, сочетание начал веры и разума приобретало всё более внешний характер, что готовило почву для последующего расторжения их сочетания в философско-теологических синтезах, поскольку, в сущности, вера есть иное в сравнении с разумом, равно и наоборот, то в восточно-христианском богословии по самой его опытной, практической конституции расторжение его с началом веры было невозможно, разумеется, здесь были свои проблемы, в частности, связанные с пониманием веры как введения в богословскую практику, в аскезу, в то время как вера, её существо, её следствия, её практические эффекты суть не только введение, но часто – сама суть дела, а также с наличием в византийском богословии, в святоотеческой традиции отнюдь не только синтетических тенденций в виде учения о науках внешних и внутренней, но и односторонних интенций, призывов изгнать из богословско-философского синтеза внешние науки и т.д.
II
Схоластический дискурс был структурирован не по типу богословско-философского синтеза, последний скорее был намечен, чем всесторонне разработан, но в виде синтеза философско-богословского, в котором был выделен комплекс проблем схоластики: соотношение веры и разума, спор номинализма и реализма, доказательства бытия Божьего, разрабатывавшийся во многом философскими средствами.
Общая стилистика схоластической мысли определялась не только духовным и интеллектуальным содержанием и контекстом проблемы соотношения веры и разума, но и всего указанного проблемного комплекса. Что касается двух последних проблем схоластики, то спор номиналистов и реалистов в основном был философской проблемой, также вряд ли следует признать удачным в богословском отношении стремление теоретическими средствами доказать бытие Божие, хотя, разумеется, эти усилия были небесполезны в философском отношении, способствовали уточнению возможностей философско-теоретического мышления.
Доказательство – это теоретическое усмотрение, а вера в Бога есть убежденность человека в существовании невидимого и невозможного в естественном порядке вещей. В определённых исторических обстоятельствах «переоткрытие» этой истины вызывало растерянность у тех, кто привык ставить разум выше веры, кто принадлежал к интеллектуальной традиции, в которой отсутствовало понимание подлинного равновесия веры и разума, не были раскрыты принципы мировоззренческого со-утверждения веры и разума, что рано или поздно приводило, с одной стороны к постепенной деградации разума в тупиковых перспективах его абсолютизации, догматизации или скептицизма, а с другой – к мировоззренческой изоляции веры от возможностей разума, что делало невозможным совмещение веры и разума в синтетической мировоззренческой системе, вело ко взаимному ослаблению начал веры и разума, соотношение которых в разных вариантах – по типу «синтетического равновесия», «взаимоотрицания», «изоляции», «замещения» и др. представляет собой одно из важнейших измерений этоса культуры.
В споре номинализма и реализма философская проблематика фактически выходит на первое место, а разработка этой проблематики, открывавшая пути развития номинализма, сыграла важную роль в трансформации средневекового способа мышления.[1]
В схоластическом богословии соотношение разума и веры сложилось таким образом, что всё более отчётливо обозначалась перспектива раскрытия и творческого использования «эффектов» разума, творческая увлеченность философскими открытиями в сфере разума (онтологическими, гносеологическими, логическими и др.). Создавалась почва не только для постоянного философского соизмерения двух видов знания – естественного и сверхестественного, для поддержания и усиления этоса разумного исследования, уместного в собственно исследовательских областях, но и для утверждения лишь вводного и внешнего отношения к области веры, к сфере опытного богословия. Соответственно сферам интеллектуальной и духовной (области веры) уделялось неравное внимание, первой – преимущественное.
Не случайно, что родоначальники новоевропейской философии – оппоненты схоластического типа мышления, рассматривали последнее как уязвимую для теоретической критики разновидность философского мышления, т.е. критически сопоставляли два стиля рационалистического мышления – средневековый схоластический и новоевропейский научно-философский. Если бы схоластика воспринималась родоначальниками философии нового времени как теология, как дисциплина вероучения, то они рассматривали бы оппозицию разума и веры, соотношение теологии и философии, а не сопоставляли бы критически две разновидности философии.
В свою очередь, подобно схоластам, родоначальники философии нового времени Р. Декарт и Ф. Бэкон были уверены в доброкачественности и прочности собственного религиозно-философского синтеза (так, Декарт нашел Богу место в философском синтезе в роли создателя предустановленной гармонии, подобно тому, как позднее в деизме Богу будет отведена роль первотолчка во вселенском движении), который с мировоззренческой точки зрения может рассматриваться как тот же тип религиозно-философского синтеза, что и схоластический, только с ещё большей акцентацией и более глубокой разработкой стороны философско-теоретической, соответственно, в ещё большей мере лишенный равновесия разума и веры, и потому, ещё более хрупкий.
Почему же при характеристике западно-христианского наследия большее внимание уделяется именно схоластической философско-богословской парадигме, хотя очевидно, что это не единственный тип мысли даже в эпоху западноевропейского средневековья, другим была католическая мистика; кроме того, вскоре схоластику потеснили религиозно-философские направления эпохи Возрождения, а затем – Нового времени. Соответственно, в целом картина западноевропейской религиозно-философской жизни сложнее, многомернее. Вместе с тем, как представляется, указание на многообразие не разрушает своеобразного системного единства упомянутых идейных направлений, поскольку все они могут рассматриваться как связанные диалектически, точнее, отношениями диалектического отрицания, в таком случае все перечисленные идейные компоненты представляются в единой диалектической системой, звенья которой оказываются связанными диалектически необходимым образом.
Поэтому, если речь пойдёт о переосмыслении этого диалектически сочленённого смыслового поля, то, дело, естественно не может ограничиться изменением каких-либо частностей, необходимо будет переустановление исходных соотношений, сформировавших это диалектическое поле, для чего надо будет обратиться к иной идейной традиции и к связанному с ней синтезу.
Если сначала позиции веры (а потому и разума) умалялись и деформировались за счёт установки на превосходство религиозно-меиафизического разума, то впоследствии под влиянием новых исторических условий, в связи с развитием науки, техники, трансформации философского знания происходит умножение типов критики религии, возникает атмосфера тотального, абсолютного преобладания мирского, естественного над сакральным, сверхестественным, т.е. дух секуляризма. В конечном счёте, секуляризм усиливают многие факторы, а творческое сопротивление ему на западно-христианской почве постепенно становится критически слабым.
Другими словами, если взять всю сумму характерных черт западно-христианской теологии, то можно будет сказать, что значимость и эффективность конструкции этой части конфессионального комплекса оказались рассчитаны лишь на аграрное общество с неразвитой городской жизнью, на ситуацию отсутствия какой-либо значимой идейной конкуренции, т.е. была максимально действенной лишь в период бытия примитивного социума с V-VI по X-XI вв., в темные века западноевропейской истории.
В условиях возрождения и развития в западно-христианском ареале городской цивилизации и культуры, усложнения прежних примитивных запросов и вкусов городского общества католическая теология сравнительно быстро оказалась в сложном положении, столкнулась с вызовами, с которыми она не в состоянии была справиться, сфера влияния католической теологии в обществе и в культуре стала неуклонно сокращаться. Уже давно отсутствовавшее в мировоззренческой сфере равновесие компонентов христианского и античного, веры и разума быстро перешло и в сферу искусства, в городскую жизнь, в общество, т.е. стремительно создавалась почва для начала движения западноевропейского социума по пути возрожденческой трансформации и новоевропейской секуляризации.
Между тем, на христианском востоке, в Византии в контексте святоотеческой традиции, понимания богословия как имеющего опытный характер, как основанного на опыте личной веры за счёт чего в этой традиции с одной стороны, исключалась подмена опыта веры рационалистическим религиозно-философским умозрением, с другой стороны, на основе учения о науках внешних и внутренней, практики византийского типа образования сохранялась возможность воспроизведения античного интеллектуального наследия, очерчивалась перспектива иного типа синтеза компонентов христианских и эллинских.
Речь идёт о перспективе мировоззренческого и цивилизационного (социокультурного) синтеза особого рода, который хотя и не являлся в полной мере эксплицитным и идеально полным (в нем не было тенденции формирования теоретического разума), однако в нём, во-первых, присутствовал концепт опытного богословия, гарантировавшего веру от «замещения» путями умозрения, а, во-вторых, и для разума указывалась верная позиция, с одной стороны, предотвращающая его иррационалистическую недооценку, опасное игнорирование (как в католической мистике), так и, с другой стороны, позволявшая избежать тенденции к его абсолютизации, как в схоластическом рационализме.
Речь идёт о принципе полноты, о сочетании духовной и культурной традиций. Говоря об этом принципе полноты С.С. Хоружий отмечает, что такая «…полнота развития в нашей исихастской традиции была реально явлена, существовала в истории в последние десятилетия существования Византийской империи, века полтора. Это, в основном, XIV век. Тогда существовала развитая традиция на уровне практики, на уровне мистического опыта, но она включала в себя и высокоразвитые культурные измерения. Культура поздней Византии осуществляла себя именно в этой примыкающей, ассоциированной парадигме по отношению к духовной традиции. Соответственно, сложившаяся система имела все предпосылки к существованию и к плодоносности» [2].
Этот принцип полноты представляет собой подлинное достижение, поскольку в нём с одной стороны утверждалось фундаментальное значение веры в духовной жизни, а с другой – постигалась и утверждалась неизбежность «составного» характера общемировоззренческого знания, включающего науки как внутреннюю, так и внешние, подчёркивалась значимость измерения культуры.
В принципе полноты, во-первых, в истинном соотношении утверждались вера и разум, науки внутренние и внешние, здесь не происходила деформация этого соотношения, т.к. разум не полагался инстанцией, покровительственно разрешающей вопросы веры, принципом, постепенно замещающим собой веру, ибо без жизни в вере невозможно восхождение к Средоточию бытия, во-вторых, в этом принципе полноты нет игнорирования значимости разума, знания внешних наук; в этом принципе не было основы для развития тенденции неприметного мировоззренческого соскальзывания на почву естественного, что содействовало формированию почвы обмирщения и т.д.
Очевидно, что в этом принципе полноты воплощена парадигма, содержащая в себе иной путь в сравнении с отстаиванием исключительно религиозной традиции или только пути разума, утверждавшегося в качестве сущности бытия.
То, что этот принцип полноты, органически связанный с восточно-христианской традицией оказался «пропущен» и «замещён» проблематичным схоластическим синтезом или же заведомо односторонними началами, не только породило одностороннее развитие и кризисные явления, но и обусловило новый цикл поиска принципа полноты истины.
Разумеется, указанный принцип полноты не может рассматриваться как совершенный во всех отношениях. Его очевидный недостаток – внешние науки в нём рассматривались по принципу античного знания, здесь не подготовлялся переход к знанию новоевропейского типа.
Гибель византийской цивилизации хотя и не привела к полной утрате византийского православного наследия, однако наследие это во многих отношениях было упрощено, догматизировано, утратило творческое измерение.
III
В русской мысли идея построения религиозной философии с существенной опорой на святоотеческие учения имеет долгую и сложную предысторию. Во-первых, в самой святоотеческой традиции могут быть выделены различные тематические компоненты – богословско-вероучительные и практико-аскетические, которым при изложении может уделяться различное внимание. Во-вторых, одно дело – задача воспроизводства самой традиции (возможны ситуации, когда она прерывается и т.д.) – миссия Паисия Величковского (1722-1794) и его последователей [3], другое, когда предпринимаются попытки с позиций святоотеческой традиции завязать диалог с современностью – творчество Тихона Задонского (1724-1783) [4]. Наконец, третья возможность это собственно ситуация включения святоотеческих учений в состав религиозной философии в качестве существенного компонента (творчество И.В. Киреевского и др.), которую нужно отличать от религиозно-философского творчества, не связанного со специальным обращением к святоотеческим учениям – творчество Г.С. Сковороды (1722-1794).
Первым русским религиозным философом, который прямо указал на синтетический философский (религиозно-философский) потенциал учений святоотеческой традиции был И.В. Киреевский. Это было новым моментом в философском (религиозно-философском) дискурсе. Именно в синтетическом святоотеческом учении о цельном знании Киреевский усмотрел основу своей религиозной философии. Характерно, что ни в западно-христианской традиции, ни в собственно философских учениях Киреевский не усматрел основу для синтеза в своей религиозной философии.
Помимо опоры на святоотеческие учения, другой особенностью религиозной философии Киреевского, в сравнении с предшествующими вариантами религиозно-философского дискурса в Славяно-греко-латинской академии, и в творчестве Сковороды, была ориентация не только на христианизированный аристотелизм или платонизм, но и на новоевропейскую философию.
Другой момент, менее ясный и дискуссионный это собственно вопрос о том, что собой представляет учение о цельном знании, какие именно святоотеческие учения и понятия имелись в виду Киреевским. Разнообразие мнений на сей счёт у исследователей возрастает за счёт того, что свою религиозно-философскую систему Киреевскому удалось изложить лишь на уровне более или менее пространно изложенного замысла.
Ввиду того, что многие свои мысли Киреевский выразил сжато и фрагментарно, в исследовательской литературе присутствует тема реконструкции воззрений Киреевского. Не переходя к рассмотрению этой темы, к полному обзору исследовательских реконструкций воззрений Киреевского, обратим внимание на одну из формулировок учения о внутренней цельности знания, в которой речь идёт о двух состояниях личностных сил и способностей: «… в глубине души есть живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого…» [5]. Дальнейшие пояснения Киреевского дают повод для неоднозначных толкований. Слова Киреевского об общем средоточии отдельных сил и способностей в глубине души, о слиянии всех отдельных сил «в одно живое и цельное зрение ума» можно понимать не только как единый организм сил и способностей души, в котором учтена каждая сила и способность, и которые входят в этот единый организм в преобразованном относительно своего первоначального эмпирического состояния виде, а и как погружение в единое мистическое состояние, в котором гаснут, теряются особенности, отдельные силы души и т.д.
В работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» Киреевский, поясняя идею цельного внутреннего знания, прибегает к формулировке о поиске такой установки, в которой была бы невозможна автономия различных сил человека от духовно-нравственного центра. «Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Одним чувством понимают они нравственное; другим – изящное; полезное – опять особым смыслом; истинное понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда её действие совершится. Каждый путь, как предполагают они, ведёт к последней цели, прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение»[6]. «Вообще можно сказать, что центр духовного бытия ими не ищется. Западный человек не понимает той живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других; то равновесие внутренней жизни, которое отличает даже самые наружные движения человека, воспитанного в обычных преданиях православного мира, ибо есть в его движениях даже в самые крутые переломы жизни что-то глубоко спокойное, какая-то неискусственная мерность, достоинство и вместе смирение, свидетельствующие о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания. Европеец, напротив того, всегда готовый к крайним порывам, всегда суетливый – когда не театральный, – всегда беспокойный в своих внутренних и внешних движениях, только преднамеренным усилием может придать им искусственную соразмерность» [7].
По Киреевскому, православный человек ищет в своей душе, в своей внутренней жизни духовный центр, вокруг которого собираются все силы души, не довольствуясь более поверхностными схемами религиозных воззрений, совместимыми в определённом смысле и с обычным, естественным состоянием ума и сил души.
Нужно отметить, что в философской интерпретации учения Киреевского о цельном знании можно говорить не только о ракурсе философско-антропологическом, здесь возможна и более общая интерпретация. В последнем случае речь пойдёт об исходной схеме философского учения, в совокупности его подразделов: гносеологическом, онтологическом, аксиологическом и др. А.К. Судаков в подразделе 6 «Умозрение цельности как христианская философия цельной жизни» в монографии «Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского», реконструируя философские воззрения Киреевского, говорит об идее соединения планов естественного (рационального) и духовного (трансрационального) в сложном иерархическом единстве, основывающемся на видимом господстве духовного момента. [8] Наиболее отчётливо общефилософский смысл основополагающего учения Киреевского о цельности внутреннего знания представлен в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии».
В случае с учением Киреевского о цельном знании, скорее всего, следует говорить, как предполагал ещё В.В. Зеньковский, об ориентации Киреевского на святоотеческое учение о различных состояниях разума в случае ориентации на внешнее, естественное и в случае преобладания в нём внутренних, духовных интересов [9].
При обсуждении смысла выбора Киреевским в качестве основоположного святоотеческого учения нужно указать на ряд моментов. Выделяя в качестве центрального в своей религиозной философии учение о цельном знании, объединявшем области веры, разума, чувств Киреевский считал, что впервые это синтетическое учение было разработано в святоотеческой традиции, на которую он и ссылался, избегая ссылок на западные философские учения о целостном человеке (Ф. Шиллера[10] и др.), что, разумеется, не случайно, поскольку у Шиллера основной акцент делался на синтезе разума и эстетического, т.е. с позиций Киреевского, разрабатывался не полный и не аутентичный вариант философско-мировоззренческого синтеза.
В связи с философскими исканиями Киреевского, связанными с осмыслением святоотеческого наследия, следует сказать ещё об одном моменте. Киреевский рассуждал в том духе, что в философии (в религиозной философии) совершенно недостаточно рассматривать традиционную для религиозной философии проблему соотношения веры и разума односторонне, а именно, в плане разъяснения различий разума и веры с целью оправдания веры перед лицом разума. В определённых обстоятельствах не менее важна и другая сторона проблемы – обоснование прав разума, сосуществующего с верой. Важно подчеркнуть, что Киреевский, испытавший влияние эпохи просвещения, идеологии и философии рационализма не готов забыть и о тех истинах, которые содержатся в просветительских максимах о том, что всё в бытии должно предстать перед судом разума, о сне разума, рождающем чудовищ и др., разумеется, без забвения того, что абсолютизированный разум также становится источником проблем, как и любое абсолютизированное относительное.
Философско-исторические воззрения Киреевского строились на сопоставлении путей исторического развития Европы и России. Своеобразие исторического пути Европы, по Киреевскому, во многом обусловил заимствованный от античности принцип формальной (отвлечённой) рациональности, повлиявший и на западноевропейское христианство. Влияние принципа формальной рациональности на западноевропейское христианство проявилось в искажении смыслов христианского учения, постепенно приведшее к схизме и к другим последствиям: к реформации, к утрате христианством искажённым, расколотым, враждующим влияния на общество и культуру, к выходу на первый план отвлечённого разума, его развитию вплоть до возникновения, наряду с тенденцией самоутверждения отвлечённого разума, исторической тенденции его теоретического и мировоззренческого самоограничения.
Западно-христианский мир не сумел обрести равновесие принципов христианской традиции и разума. К обретению этого равновесия в определённых тенденциях византийского православия двигался восточно-христианский мир, однако падение Византии привело к забвению или к маргинализации византийских восточно-христианских синтетических тенденций.
«Что же оставалось делать для мыслящей Европы? Возвратиться ещё далее назад, к той первоначальной чистоте этих основных убеждений, в какой они находились прежде влияния на них западноевропейской рассудочности? Возвратиться к этим началам, как они были прежде самого начала западного развития? Это было бы делом почти невозможным для умов, окружённых и проникнутых всеми обольщениями и предрассудками западной образованности. Вот, может быть, почему большая часть мыслителей европейских, не в силах будучи вынести ни жизни тесно эгоистической, ограниченной чувственными целями и личными соображениями, ни жизни односторонне умственной, прямо противоречащей полноте их умственного сознания, чтобы не оставаться совсем без убеждений и не предаться убеждениям заведомо неистинным, обратились к тому избегу, что каждый начал в своей голове изобретать для всего мира новые общие начала жизни и истины, отыскивая их в личной игре своих мечтательных соображений, мешая новое со старым, невозможное с возможным, отдаваясь, безусловно, самым неограниченным надеждам, и каждый противореча другому, и каждый требуя общего признания других. Все сделались Колумбами, все пустились открывать новые Америки внутри своего ума, отыскать другое полушарие земли по безграничному морю невозможных надежд, личных предположений и строго силлогистических выводов»[11].
Многообразие идеологической, философской и культурной жизни в новоевропейский период Киреевский справедливо связывает с эрозией религиозной традиции и выдвижением на первый план отвлечённого разума. Вместе с тем, Киреевский далёк от схемы рассуждения по типу «отход от христианства – возвращение к нему», хотя, разумеется, немалая доля истины в таком рассуждении есть. Как представляется, здесь нужно различать два плана рассмотрения. В одном противопоставляются вера и неверие, и тогда для религиозного философа выбор представляется вполне ясным и определённым. В другом на первом плане оказывается спор о путях христианской политики с целью осмысления и преодоления «исторической неудачи» христианства, секуляризации как исторической тенденции первоначально на христианском Западе, а затем и в других христианских странах и в мире. Дискурс Киреевского, а впоследствии и Г.В. Флоровского преимущественно разворачивается во второй плоскости.
Рассуждая о началах истинного христианства, к которому должен вернуться Запад, Киреевский опирался на православную традицию и религиозную философию, православное мышление. Последнее он утверждал в контексте возможного диалога святоотеческой традиции и новейших результатов западной образованности.
По сути дела Киреевский имел в виду новую синтетическую творческую задачу, решение которой не могло быть сведено ни к простому возвращению к традиции, ни к выдвижению ещё одной идеологии.
Синтез, к которому был устремлён Киреевский, он пояснял не только посредством высшего понятия цельного знания, в котором утверждалась иерархия понятий гносеологических, этических, эстетических и др. с верхней ступенью веры, но без подмены, замещения исключительно верой этой иерархии ступеней, но и изображая идеальный тип православного верующего, у которого «свободное развитие естественных законов разума не может быть вредно для веры…», ибо вера «для него не слепое понятие, которое потому только в состоянии веры, что не развито естественным разумом…», для которого вера также «не один внешний авторитет, перед которым разум должен слепнуть, но авторитет вместе внешний и внутренний, высшая разумность, живительная для ума».[12]
В рассуждениях о цельном знании, о православном мышлении Киреевский пытался сформулировать кардинальную идею соотношения веры и разума, традиции и разума таким образом, чтобы указанные понятия, сочетались в синтетической конструкции, взаимодействовали не взаимно разрушительным образом, что являлось задачей новой и сложной.
С этими явно обращёнными в будущее размышлениями Киреевского можно сравнить замыслы В.С. Соловьёва, который, подобно Киреевскому, был озабочен тем, в каком облике в современной культуре должен быть представлен синтез христианской культуры для нового исторического утверждения христианства. В отличие от Киреевского, стремившегося к такому сочетанию понятий традиции[13], веры и разума, в котором было бы сохранено своеобразие этих понятий, Соловьёв стремился преодолеть «отчуждение» современного ума от христианства путём преодоления несоответствующей христианству неразумной, т.е. традиционной формы. «Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, т.е. разумную, безусловно, форму…».[14]
В отличие от Киреевского, критиковавшего отвлеченную разумность, равно как и другие способности души в отвлечённом состоянии, стремившегося к поиску модели синтетического иерархического сочетания понятий веры, традиции, разума, Соловьёв рассуждал о «великой задаче» введения христианства в разумную форму в духе идеалов времени рационалистического типа, не просто критиковал в известных аспектах, возможно, даже во многих (что уместно), но отвергал бытие христианства в «неразумной» форме традиции, фактически стремился к логоцентристскому, просветительского типа замещению традиции разумом, к превращению метафизического разума в основную опору.
Если в философском замысле Киреевского приоткрывались новые интеллектуальные и культурно-исторические горизонты, то замысел Соловьёва во многом представлял собой синтез, аналогичный новоевропейскому христиански ориентированному метафизическому рационализму немецкой классической философии (Фихте, Шеллинг, Гегель).
IV
Хотя раскрытие философского значения учений святоотеческой традиции явление редкое в русской религиозно-философской мысли, но все же не единичное. Помимо Киреевского и А.С. Хомякова существенное значение такому ходу мысли придавали Г.В. Флоровский и В.Н. Лосский, а из числа наших современников – С.С. Хоружий, в этом же направлении в своих последних работах продвигался и А.С. Панарин.[15]
По мнению Флоровского творчество русских религиозных философов не должно опираться исключительно или преимущественно на западные философские и духовные традиции, но призвано ориентироваться на образцы святоотеческого наследия, византийской православной традиции.
Оппозиция философии Соловьева и философской мысли, ориентированной на византийскую православную традицию, была сформулирована Флоровским в период переосмысления его отношения к философии Соловьева. Если же на эту оппозицию взглянуть в более широком контексте истории русской философии, то станет понятно, что у неё была предыстория в виде противостояния философии Соловьева и славянофильства. Соловьев противопоставлял идею христианского универсализма «языческой» идее национального обособления, национального эгоизма, исказившие христианское сознание, под власть которых, по мнению Соловьева, попали и славянофилы. Как представляется, особый акцент Соловьев делал на идее христианского универсализма не только потому, что видел в ней выражение идеи христианской любви, но и потому, что эта идея была созвучна универсализму метафизического разума. Главный упрек Флоровского в адрес Соловьева – это игнорирование последним византийской православной традиции в её своеобразии. В противовес Соловьеву, акцентировавшему христианский универсализм, не придававшему существенного значения особенностям православного христианства, Флоровский на первый план выводил византийско-православную традицию.
Особенность подхода Флоровского к проблематике различий западно-христианской и восточно-христианской традиций заключалась в том, что он не ограничивался рамками межконфессиональных догматических и богословских споров, а вслед за И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым рассматривал последствия конфессиональных догматических и богословских различий в западнохристианской и восточнохристианской религиозно-философских и культурно-исторических традициях. За счет выведенной Флоровским из рассмотрения сущности святоотеческой традиции такой её особенности как мысли синтетической, христианско-античной, подход русского мыслителя в методологическом и в содержательном отношениях приобрел многомерный, синтетический характер, в известной мере аналогичный западнохристианской схоластике, также основанной на синтезе компонентов христианского и античного, однако лишенной недостатков западнохристианской схоластики в части мировоззренческого осмысления веры и трактовки соотношения веры и разума. Понятно, что в религиозно-философском плане Флоровский вновь выводит на первый план предложенную ещё славянофилами, в особенности, И.В. Киреевским, оппозицию двух традиций – западно-христианской (католической и протестантской) и восточно-христианской.
Однако в этой оппозиции Флоровский по-новому расставляет акценты. Если славянофилы, во многом в логике романтизма делали акценты на концепте «народного духа» и на противопоставлении «истинных» проявлений в прошлом и «профанного» настоящего, концентрируя внимание на особенностях древнерусской образованности (хотя в последнем случае Киреевский занимал особую позицию и т.д.), то Флоровский, преодолевая романтизм славянофилов, критически воспринимая и феномен древнерусской образованности, рассматривал в качестве образца не древнерусскую православную образованность, но кульминацию византийской православной традиции в творчестве Г. Паламы, которому удалось осуществить наиболее глубокий и аутентичный синтез христианского и эллинского компонентов святоотеческой традиции. По мнению Флоровского, Киреевскому удалось выйти за рамки романтизма, однако он не раскрыл церковную традицию.
В богословском дискурсе Флоровский фактически избегал односторонних позиций – либо последовательного традиционализма, либо модернизма. Что касается первой позиции, то здесь надо иметь в виду, что, во-первых, патристическую традицию Флоровский рассматривал в качестве классического образца синтеза христианства и античной культуры, и, во-вторых, простое повторение патристической традиции в современности по Флоровскому не будет творческим синтезом. Соответственно Флоровский специально говорит о необходимости осуществления нео-патристического синтеза, предусматривающего синтез христианства и начал современной культуры аналогичный классическому святоотеческому синтезу христианства и культуры античной.
Что касается последовательного модернизма, то, как представляется, последний рассматривался Флоровским как субъективистский разрыв с церковной традицией.
Соответственно можно говорить о феномене своеобразного традиционалистко-модернистского синтеза в богословском творчестве Флоровского, на который уже обратили внимание исследователи П.Л. Гаврилюк и А.В. Черняев.[16]
Важно подчеркнуть, что Флоровский указывал на различные типы синтеза в традициях восточно-христианской и западно-христианской. Этим традициям присущи различные по форме и по содержанию, типы синтеза, соотношения наук внешних, мирских и внутренней, духовной, веры и разума, разума и традиции, начал культурных и духовных.
В восточно-христианской традиции вера как основное содержание духовной жизни, рассматривается не только как начало не менее существенное, чем жизнь разума, но, в своих границах и как более существенное. Однако подлинное возвышение веры достигается не за счёт отказа от признания значимости разума, внешних наук и т.д. Зрелым плодом восточнохристианской традиции явилось паламитское энергийное богословие, в котором и был явлен один из примеров указанного синтеза и т.д.
Следует подчеркнуть, что в осмыслении святоотеческого наследия в творчестве Киреевского и Флоровского, в учении о естественных состояниях ума и внутреннем цельном знании первого и в рассмотрении святоотеческого наследия как христианского эллинизма и роли последнего как образца для неопатристического синтеза у второго, в указании на тип византийской образованности как сочетания наук внешних и внутренней, духовной, акцент делался на синтетических аспектах святоотеческих учений, сохранивших своё значение для богословских и религиозно-философских построений в современности.
Фактически здесь очерчивалась религиозно-философская программа, складывавшаяся в русле восточно-христианской традиции, но оставшаяся имплицитной. Киреевский сформулировал философскую программу разработки «православного мышления», в которой намеревался совместить традиции восточно-христианскую и философскую, но она осталась нереализованной. Что касается Флоровского, то его критика философии Соловьёва оказалась не введением в разработку иного варианта религиозной философии, а решающим пунктом на пути эволюции Флоровского от религиозной философии к богословию, т.е. и Флоровский не разработал систематически никакой определённой религиозной философии, но лишь наметил её эскиз. Вместе с тем, указанная выше собственно религиозно-философская задача не может рассматриваться как утратившая актуальность.
Ещё раз подчеркнём, что идею цельности, синтетическую идею можно рассматривать как ключевую в философской интерпретации Киреевским и Флоровским святоотеческой традиции. Говоря о цельном знании, о христианском эллинизме, о синтетической формуле византийской образованности и, словно отвечая на знаменитый вопрос Льва Шестова: «Афины или Иерусалим?», и Киреевский, и Флоровский утверждают: «И Иерусалим, и Афины; и вера, и разум; и традиция, и разум; и внешние науки, и внутренние», настаивая при этом на восточно-христианском типе синтеза.
И в случае с положением Киреевского о внутреннем цельном знании, и с трактовкой Флоровским святоотеческого наследия как христианского эллинизма, акценты делаются на необходимости включения в состав мировоззренческого комплекса начал веры и разума в одном отношении как иерархически выстроенных, с признанием главенства веры в утверждении религиозно-мировоззренческих смыслов, а в другом – как необходимо взаимодополнительных с признанием их автономии по отношению друг к другу.
V
С.С. Хоружий выступил как автор концепции нового этапа в истории русской философско-богословской мысли в 30-е-70-е года ХХ века в русском зарубежье, (где сохранились условия для творческой эволюции русской философско-богословской мысли ХХ века), для которого конституирующим был переход от религиозной философии, основанной на религиозной метафизике, преимущественно ориентированной на образцы немецкой классической философии к богословско-философской мысли, во многом основанной на византийской святоотеческой традиции и этот новый этап в истории русской философско-богословской мысли рассматривается Хоружим как звено общей истории византийской и русской православной богословско-философской мысли, истолкованной в основном по Г.В. Флоровскому. Кроме того, Хоружий выступил и как автор оригинальной философской концепции синергийной антропологии, вписывающейся в упомянутый новый этап в истории русской религиозной философии.
Кратко рассмотрим оба указанных тематических плана.
Несмотря на то, что интенсивное развитие русской культуры началось сразу после крещения Руси, долгое время оно не включало в себя развитие философско-богословской мысли.[17]
Здесь дело и в особенностях восточно-христианской традиции и в характерных особенностях восприятия её на Руси. В то время как на Западе интенсивное развитие философско-богословской мысли опиралось на традицию античного интеллектуализма, доминирующей роли отвлеченного концептуального мышления, в Византии этот способ мышления не играл такой существенной роли, поскольку восточно-христианское сознание базировалось на примате опыта; цель христианского существования усматривалась в обретении опыта Богообщения, жизни в Боге.
В Византии изучение античной философии имело значение пропедевтическое и чётко отделялось от поиска истины в соответствие с евангельскими представлениями о том, что вся истина во Христе.
Особенности восточно-христианского дискурса как синтеза греческой патристики и аскетики (исихазма) сложились уже к VII веку у преп. Максима Исповедника.
В русской рецепции византийского православия акцент делался на аутентичном опыте Богообщения, на литературе аскетико-назидательной, а не философско-богословской. В результате русское сознание, воспринимая восточно-христианский дискурс, формировалось как истово благочестивое, однако лишь минимально просвещенное и едва ли стремящееся к просвещению.
Кроме того, в восточно-христианском дискурсе не сложилась самостоятельная парадигма культурного развития и научного знания. Соответственно постепенно западные парадигмы утвердились в качестве единственного и универсального образца всего христианского мира, включая и регион православия.
Особенности восточно-христианского дискурса воспринимались и истолковывались как незначительные отклонения от доминирующих западно-христианский культурных парадигм. Однако в народной культуре сохранились антивестернизаторские установки. Характерной особенностью православного социума становится социокультурный и духовный раскол, углубившийся в России в результате реформ Петра I и соответственно принявший в стране особенно острые формы, что, в частности, существенно сказалось и на развитии русского философcкого самосознания, одной из существенных тем которой стала оппозиция учений славянофилов и западников.
Мировую известность русская философия приобретает со времени творчества В.С. Соловьёва и его последователей – представителей национальной школы философии всеединства, одного из ведущих направлений русского религиозно-философского ренессанса начала ХХ века.
Вместе с тем, эти заслуженно приобретшие мировую известность представители школы философии всеединства работали в русле самостоятельного направления по преимуществу опиравшегося на немецкую классическую философию в рамках классической западной богословско-философской традиции.
В этом, по преимуществу западного типа дискурсе были частично выражены и особенности восточно-христианского дискурса, традиции русской духовности.
Однако ключевые особенности восточно-христианского дискурса – личностная и энергийная его стороны, отличные от эссенциальной природы классической метафизики – не были выражены в этом дискурсе.
Проявлениями кризиса, вызванного несоответствием русской религиозно-философской мысли периода религиозно-философского ренессанса кардинальным особенностям восточно-христианского дискурса стали споры об имяславии и о софиологии о. С.Н. Булгакова.
Споры об имяславии не стали поворотным пунктом в развитии философско-богословской мысли, т.к. инициированные ими философско-богословские размышления остались по преимуществу неопубликованными, существенно не согласовывались с истинными принципами восточно-христианского дискурса, а также были заслонены революционными событиями в России.
Следующий этап в истории русской религиозной мысли формировался в условиях послереволюционной катастрофы, когда горечь, ожесточение и озлобление христиански мыслящие русские люди стремились преодолеть покаянием и трезвением. Усилилось недоверие к масштабным идейным и идеологическим построениям эпохи Серебряного века, возрос интерес к аскетике и к достоверным устоям православной традиции.
По Хоружему, поворотными здесь стали труды В.Г. Флоровского, В. Кривошеина, В.Н. Лосского, И. Мейендорфа и новое направление под названием «неопатристики и неопаламизма» и православного энергетизма окончательно сложилось к середине 70-х гг. ХХ века.
Именно в указанном направлении, по Хоружему, богословская мысль, наконец, осуществляет адекватное выражение восточно-христианского дискурса. Вместе с тем, здесь возникает проблема перехода от богословия к философии.
В качестве философски значимых особенностей энергийного богословия Хоружий выделяет обращенность к опыту, к человеку, к подвижнической традиции, рецепция которых отделяла новые философские установки от парадигмы религиозной метафизики.
Так создается основа для философии, с одной стороны, не чуждой современной интеллектуальной ситуации, характеризующейся антропологизацией богословия (и онтологии), кризисом метафизики и всех классических моделей и парадигм, с другой стороны, выходящей за пределы подверженных кризису классических и метафизических оснований, в этом смысле, носящей неклассический характер.
По Хоружему, так формулируется неклассическая антропология, опытная и энергийная, отказывающаяся от классической эссенциалистской антропологии, трансдисциплинарная, сочетающая в себе основные дискурсы, причастные к проблеме человека – философский, богословский, герменевтический, психологический, системно-синергетический.
Для антропологических поисков Хоружего характерна аналогия между исихазмом и феноменологией, в частности, между исихастской установкой трезвения и феноменологическим концептом интенциональности. Однако основной линией антропологических размышлений Хоружего стало осмысление исихастской традиции, с характерным для неё размыканием себя Иному, Богу для восприятия божественных энергий, обожения, которое позволило найти путь к формулированию общеантропологического принципа размыкания как универсального способа, каким человек актуализирует своё отношение с Иным. Выделяются три типа антропологического размыкания – онтологический, онтический и виртуальный.
VI
В исследовательской литературе высказывается мысль, что своеобразие русской религиозной философии определяется её ориентацией на святоотеческую традицию.
Утверждение это нуждается в уточнении. Во-первых, указанная формула характеризует не всю русскую философскую мысль, а только её религиозно-философскую часть, даже если эта часть и расценивается как наиболее значительная в сравнении с другими.
Но, как видно, рассматриваемое утверждение нуждается в уточнении и применительно к русской религиозно-философской мысли, поскольку в ней отчётливо выделяются два русла, которые условно можно обозначить как «христианское» и «православное». Смысл последнего разделения в прямом указании на две группы русских религиозных философов, представители первой из которых при разработке своей религиозной философии не придавали существенного значения факту конфессиональных различий в христианстве, особенностям западно-христианской традиции и православия, выраженным в византийской святоотеческой традиции. К первой группе может быть отнесено философское творчество В.С. Соловьева и большинства его последователей, Н.А. Бердяева и др.
Ко второй группе мыслителей, которые сознательно избрали опору не только на основания христианские (общехристианские), что, разумеется, естественно для христианина, но которые в равно существенной степени относятся к обеим сторонам православного христианства – общехристианской и к конфессионально особенной, выраженной, в частности, в византийской святоотеческой традиции, в православном опытном богословии, поскольку рассматривают последнее не только как результат определенных внешних исторических обстоятельств и случайностей, но как неотъемлемую существенную особенность православия.
Но и во второй группе мыслителей, включающей И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, Ф.М. Достоевского, Г.В. Флоровского, В.Н. Лосского, С.С. Хоружего в свою очередь, могут быть выделены видовые варианты идейных позиций, обусловленные акцентацией различных сторон святоотеческой традиции. Киреевский усматривал наиболее важную основу для построения религиозной философии в учении о цельном знании; Достоевский обличал в католицизме стремление к опоре на государственное принуждение в делах веры, в действительности приводившее лишь к атеизму и тем самым акцентировал в православии принцип свободы; Флоровский подчёркивал двукомпонентную структуру святоотеческой традиции как христианского эллинизма, как синтеза христианства и начал эллинской культуры (по образцу которого и определялась перспектива нового синтетического диалога христианства и современной культуры, перспектива неопатристического синтеза); Хоружий акцентирует энергийное богословие, выделяет центральный философский принцип из святоотеческой традиции. На первый взгляд перед нами лишь примеры обращения к святоотеческой традиции в религиозно-философских целях.
Однако при более внимательном сопоставлении этих примеров здесь могут быть выделены два варианта религиозно-философского обращения к святоотеческой традиции. В первом и втором примерах (учения о цельном знании Киреевского и представления о структуре святоотеческой традиции как о христианском эллинизме у Флоровского) можно заметить, что акценты делаются на синтетическом измерении святоотеческой традиции, а в последнем – на энергийно-синергийном принципе, выражающем одно из важнейших понятий святоотеческой традиции. Хотя в последнем случае нет указания в эксплицитном виде на синтетический план, в имплицитном виде указание на определённый синтетический план содержится, поскольку предполагается сосуществование планов богословского и философского.
Как представляется, наиболее глубокое религиозно-философское самосознание раскрывается в таких религиозно-философские учениях синтетического типа, в которых синтез философии, религии и науки сочетается с продуктивным решением проблемы соотношения традиции и современности, с положительным ответом на вопрос о религиозно-философской значимости характерных особенностей святоотеческой традиции.
Упомянутое различие путей религиозно-философской мысли обуславливается различием центральных звеньев этих синтезов – религиозной метафизикой в первом случае и комплексом «замещающих» религиозную метафизику учений (о православной святоотеческой традиции, о личности, о разуме, о социально-исторической сфере) – во втором. Другие существенные аспекты синтеза второго типа, которые могут быть эксплицированы суть полагание связи веры с религиозной традицией и церковной организацией, позволяющее предотвратить субъективистское искажение естественной субъективной стороны религии, темы историософской динамики в связи с конфессиональными разделениями (тема исторических судеб христианского Запада и Востока) и цивилизационной (социокультурной) идентичности (тема византийско-православной, восточно-христианской идентичности России). В свою очередь, раскрытие оснований связи идентичности русской культуры с восточно-христианской традицией, позволяет с одной стороны, в определённой мере внутренне отъединиться от традиции западно-христианской и западноевропейской, не разделять оснований драматических (возможно, трагических) тенденций современной эволюции западного общества, уйти от комплексов несамостоятельности, подражательности, а с другой стороны, дает возможность сохранять с Западом необходимый диалог, не впадая ни в изоляционизм, ни в утопию востоко-центризма.
Библиографический список
- Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика Средних веков // Метафизика. 2015.№ 4(18). С.122-133.
- Хоружий С.С. Духовная и культурная традиции в России в их конфликтном взаимоотношении http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_bilingua.pdf (дата обращения 18.01.2016).
- Ермишин О.Т. Философия религии. М., 2009. С. 131.
- Ермишин О.Т. Философия религии. М., 2009. С.129-130.
- Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Его же. Критика и эстетика. М., 1979. С.319.
- Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Его же. Критика и эстетика. М., 1979. С. 274.
- Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Его же. Критика и эстетика. М., 1979. С. 274-275.
- Судаков А. К. Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского. М., 2012. С. 73-74.
- Зеньковский В.В. История русской философии. Харьков, М., 2001. С.213.
- Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека.
- Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России // Его же. Критика и эстетика. М., 1979. С. 253-254.
- Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Его же. Критика и эстетика. М.,1970. С. 319.
- Здесь нужно отметить, что понятием традиции Киреевский оперировал фактически, сопоставляя традиции западно- и восточно-христианские и т.д., без тематизации проблематики традиции, которая впервые была мировоззренчески осуществлена в творчестве родоначальника традиционализма Р. Генона, а впоследствии вошла и в научный гуманитарный дискурс.
- Цит.по Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. С. 126.
- Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире // Его же. Православная цивилизация. М., 2014. С. 39-574.; см. о нём: Бажов С.И. Перспективы политического и культурного развития России в современной отечественной консервативно-либеральной мысли (на примере политико-культурологического дискурса позднего А.С. Панарина) // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/10/8133 (дата обращения: 22.11.2016).
- Гаврилюк П.Л. Парадигмальный сдвиг в историософии Г.В. Флоровского: об истории создания курса лекций «Философия Вл. Соловьёва» // Историко-философский ежегодник 2015. М.: Аквилон, 2015. С. 284-302; Черняев А.В. Неопатристический синтез как встреча Традиции и Модерна // История философии. Том 21. № 1, 2016. М.: ИФРАН,2016. С.168-175.
- Хоружий С.С. Дело христианского просвещения и парадигмы русской культуры // http://synergia-isa.ru/lib/download/lib/013_Horuzhy_Delo_Prosv.doc.