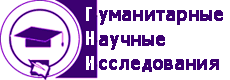Проблема «преступления и наказания» в ее социальном плане и нравственных аспектах волновала Диккенса на протяжении всей его жизни. В последний период его возросшее художественное мастерство способствовало новому осмыслению этой проблемы.
В русской критике последней трети XIX века и в начале XX века отмечался факт тяготения Диккенса к криминальной тематике, к изображению подсознательных импульсов человеческой психики. Например, Г. Ларош (псевдоним Нелюбов) подчеркивал, что «Диккенс вступил в область, новую для его пера, как и для всей английской литературы – в область преступления…» [1. с. 81]. Е. Кулишер в речи произнесенной 29 марта1912 г. на съезде русской группы международного союза криминалистов по поводу 100-летия рождения Диккенса , отмечал, что в «мыслях, воплощенных в художественных образах, Диккенс является во многом предтечею новых идей в области уголовного права». Кулишер неоднократно упоминал, что «Диккенс открыл преступника … и описание у Диккенса преступных типов подготовило почву для новых воззрений на преступника, как на человека со своеобразной психической организацией» [2. с. 102].
В. Сиповский считал любимыми темами диккенсовских сочинений разоблачение тех, кто злом и преступлением решили бороться с неправдами социальной жизни. По мнению Сиповского, Диккенс «рисует нам мир преступников, самых разнообразных – из высшего класса и из низших, в сердцах которых он при всем своем желании уже не находит ни одной искры света и таких, которые мучимы муками совести …» [3. л. 11].
Диккенс, так же, как и Достоевский, считал одним из важнейших показателей нравственного состояния общества отношение к преступлению и наказанию. Нравственные последствия преступления были предметом размышления позднего Диккенса, который полагал, что наказание преступника не должно пробуждать звериные инстинкты толпы. Изображая преступников, писатель стремился исследовать человеческую натуру, испорченную обстоятельствами, но не преступную изначально.
Поднимая вопрос освоения диккенсовских мотивов в произведениях Достоевского, английские критики [4, 5] пытались разрешить один из основных вопросов, а именно: вдохновлял ли Диккенс Достоевского на описание психологии преступника? Особенно остро ставится этот вопрос в монографии Н.М. Лари. Аргументируя важность и необходимость постановки этой проблемы, канадский исследователь уже в первой главе «Criminals and Angels» («Преступники и ангелы») находит некоторое сходство в том, как изображена психология убийцы у Достоевского (Раскольников) и Диккенса (Брэдли Хэдстоун). Сравнивая особенности художественного пространства в изображении героев у Достоевского и Диккенса, Лари проницательно отмечает, что Раскольников и Брэдли «живут в тесных комнатах»: «тесные комнаты, из которых появляются оба, символизируют отчуждение преступников от общества и от самих себя … после же совершения преступления оба они чувствовали потребность в общении» [4. р. 7-8].
Учитывая значение художественного опыта Диккенса в изображении Достоевским психологии человека в ее экстремальной напряженности, можно предпринять попытку с особой осторожностью провести параллели между образами Раскольникова и Брэдли Хэдстоуна. Сравнение позднего романа Диккенса «Наш общий друг» и «Преступления и наказания» в исследовании писателями истоков преступления и психологии героев, а именно образов Раскольникова и Брэдли Хэдстоуна показывает, как глубоко осмыслял Достоевский идеи и образы английского писателя, трансформируя их и обогащая свою творческую фантазию.
Роман «Преступление и наказание» – итог многолетних размышлений Достоевского, – является глубоким и ярким отражением русской действительности 1860-х годов, и единственный аспект, в котором Раскольников может быть сопоставлен с диккенсовскими персонажами, – не социальный и не философский, а скорее нравственно-психологический [5. c. 223]. Еще Д. Гиссинг считал, что диккенсовские мотивы проникли в ту часть романа, которая стала сюжетной линией семьи Мармеладова. «Родись английский романист в России», – писал Гиссинг, «он вполне мог быть автором большой сцены в начале книги, когда отец Сони, пьяница и нелепое существо, изъяснялся перед нами в необычном монологе» [5. p. 225].
Переживания Раскольникова после убийства процентщицы напоминают психологические страдания Брэдли Хэдстоуна после его покушения на Рейборна. Угрызения совести были неведомы Хэдстоуну, однако Диккенс подчеркивает, что преступнику не избежать другой медленной пытки – постоянного мысленного повторения своего преступления: «… the evil-doer … cannot escape the slower torture of incessantly doing the evil deed again and doing it more efficiently. In the defensive declarations and pretended confessions of murderers, the pursuing shadow of this torture, may be traced through every lie they tell. If I had done it as alleged, is it conceivable that I would have made this and this mistake? If I had done it as alleged, should I have left that unguarded place which that false and wicked witness against me so infamously deposed to? The state of that wretch who continually finds the weak spots in his own crime, and strives to strengthen them when it is unchangeable, is a state that aggravates the offence by doing the deed a thousand times instead of once, but it is a state, too, that tauntingly visits the offence upon a sullen unrepentant nature with its heaviest punishment every time» [7. p. 630] (…преступнику… все же не избежать другой медленной пытки: он непрестанно повторяет медленно свое злодеяние и раз от разу тщится совершить его все лучше и лучше. В защитительных речах, в так называемых исповедях убийц, неотступная тень этой пытки лежит на каждом их лживом слове. Если бы все было так, как мне предписывают, мыслимо ли, чтобы я совершил такую-то и такую-то ошибку? Если бы все было так, как мне предписывают, неужели я упустил бы эту явную улику, которую ложно выставляет против меня злонамеренный свидетель? Такая навязчивая идея, выискивающая одно за другим слабые места в содеянном, чтобы укрепить их, когда уже ничего изменить нельзя, усугубляет злодеяние тем, что оно совершается тысячу раз вместо одного. И эта же направленность мысли, точно дразня озлобленную, не знающую раскаяния натуру, карает преступника тягчайшей карой, непрестанно напоминает ему о том, что было).
Этот отрывок отражает глубину духовного смятения Хэдстоуна, в сознании которого зарождаются сомнения в его праве на кровопролитие.
Описание психологического процесса преступления Раскольникова является у Достоевского глубинной художественной задачей, ориентированной на постижение «фантастической реальности», иррационального в человеческой природе. В своем письме к издателю «Русского вестника» М.Н. Каткову Достоевский разъясняет идею своего произведения: «Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, не подозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце». Беловой текст письма Достоевского к Каткову неизвестен. Оно было написано между 10 и 15 (22 и 27) сентября1865 г. [8. c. 310].
H.H. Страхов в статье «О преступлении и наказании» сравнивает состояние Раскольникова после убийства с чувствами Брэдли Хэдстоуна: «… в душе Раскольникова, сверх страха и боли, должна бы еще занимать большое место третья тема – воспоминание о преступлении. Воображение и память преступника, казалось бы, должны чаще обращаться к картине страшного дела» [9. c. 521]. Поясняя свою мысль, Страхов указывает на «превосходное описание преступления в романе Ч. Диккенса «Наш общий друг». Описывая состояние убийцы (Брэдли Хэдстоуна), H.H. Страхов приводит фрагмент из главы «Лучше быть Авелем, чем Каином», используя перевод Н. Ауэрбаха из «Русского вестника»: «… он находился в том состоянии духа, которое тяжелее и мучительнее угрызений совести. В нем угрызений совести не было, но злодей, который может отстранить от себя этого мстителя, не в состоянии избежать более медленной пытки, состоящей в беспрерывной переделке его все с большим и большим успехом. В оправдательных покаяниях и в притворных сознаниях убийц, карающую тень этой пытки можно проследить в каждой говоримой лжи. Если бы я сделал это как показывают, можно ли вообразить, чтоб я сделал такую-то ошибку? Если бы я сделал это, как показывают, неужели я оставил бы не замкнутою эту лазейку, которую ложный и злонамеренный свидетель так бесчестно выставляет против меня? Состояние злодея, беспрерывно открывающего слабые места в своем преступлении, старающегося укрепить их, когда сделанного уже нельзя изменить, есть такое состояние, которое усиливает тяжесть преступления, что заставляет совершать его тысячу раз вместо одного, но в то же время и такое состояние, которое в натурах злобных и нераскаянных карает преступление самым тяжким наказанием» [10. c. 336-337].
Сопоставляя Хэдстоуна и Раскольникова по уровню рефлексии, Страхов приходит к выводу о том, что «Раскольников только два раза возвращается воображением к своему преступлению», при этом Страхов отдает справедливость Ф.М. Достоевскому в том, что оба воспоминания «изображены с удивительною силою». В первый раз Раскольников по невольному влечению приходит сам на место преступления. Во второй раз, после того, как мещанин назвал его на улице «убивцем» [11. c 201], Раскольников видит сон, в котором вторично убивает свою жертву.
H.H. Страхов справедливо отмечает, что после совершения преступления для Раскольникова начинается двоякий ряд мучений: «Во-первых, мучения страха. Несмотря на то, что все концы спрятаны, подозрительность не оставляет его ни на минуту, и малейший повод к опасению нагоняет на него мучительный страх». Второй ряд мучений, по мнению Страхова, заключается в тех чувствах, «которые испытывает убийца при сближении с другими людьми, у которых нет ничего на душе, которые полны теплотою и жизнью» [9. c. 521].
Чувство «отъединения» от людей является общим для Раскольникова и Брэдли, который вынужден был скрывать свои истинные чувства, давая волю своим страстям лишь ночью: «… he broke loose at night like an ill-tamed wild animal» [7. c. 690] (по ночам он вырывался на свободу, словно плохо укрощенный, дикий зверь). У Раскольникова же «Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести», не вынося чувства «разомкнутости и разъединенности с человечеством» [11. c. 201], которое он ощутил тот час же после совершения преступления.
Хотя Раскольников до конца все-таки не мог понять и осмыслить движений, поднимавшихся в его душе и составляющих для него такую муку, его попытка к самоанализу создавала предпосылку грядущей духовной эволюции. Брэдли Хэдстоун же, после покушения на Рейберна, пытается проанализировать свершившееся, сожалея лишь о том, что его план не удался.
Страхов отмечает, что Раскольников так же, как Хэдстоун «раздражает, натравливает себя на страшное дело», старается увлечься до самозабвения. По мнению критика, «идея преступления у Хэдстоуна, так же, как и у Раскольникова, опиралась на такую черту его характера, как самолюбие и то озлобление, которое от него происходит». Проводя параллель между душевным состоянием Хэдстоуна и Раскольникова, Страхов называет последнего «истинно русским человеком» именно в том, что он «дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум». Оценивая духовный потенциал Раскольникова, Страхов говорит о «драгоценном, великом свойстве русской души», о «черте чрезвычайной серьезности, как бы даже религиозности, с которою она предается своим идеалам» [9. c. 520].
Итак, в романе «Наш общий друг» описана психология человека, решившегося на убийство под влиянием ревности к сопернику, и предметом изображения Диккенса является эгоистическая природа героя, в то время как в центре романа «Преступление и наказание» оказывается проблема социальной и философской обусловленности преступления Раскольникова.
Проблемы, поднятые в «Преступлении и наказании», оставляют далеко позади вопросы, волнующие Диккенса в романе «Наш общий друг». Влияние, если и распространяется на центральный образ, то не касается основных проблем, которые стали решающими для самого Достоевского в этот период, в частности, идеи смирения, очистительной роли страдания, христианского всепрощения. Раскольников решается убить человека, чтобы удостовериться в своей причастности к «избранным», убийство необходимо ему для того, чтобы установить правду о своей природе, и нельзя не согласиться с тем, что морально-психологическая подоплека убийства у Достоевского значительно глубже и сложнее, чем мысли о «преступном человеческом разуме» у Диккенса.
Сравнение образов Раскольникова и Б. Хэдстоуна позволяет поставить вопрос о характере понимания человеческой природы Диккенсом и Достоевским, о своеобразии каждого художника, об их общности и различии. Если поставить эту проблему на уровень авторского сознания, то при всем своеобразии и исторической обусловленности постановки вопросов у каждого из писателей становится очевидной идея, так сближавшая Диккенса и Достоевского, – идея о «преступном человеческом разуме» (рационализме) и о «живой душе, о жажде верить». Здесь следует обратить внимание на суждение Достоевского о неизведанности законов человеческого духа, согласно которому спасение и духовное воскресение человека может наступить лишь тогда, когда он признает извечность мирового зла и необходимость страдания: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение и аз воздам» [11. с. 203].
Таким образом, Достоевский вовсе не считал, что изучение социальных закономерностей открывает человечеству путь к спасению. Он твердо знал, что «знание истины» не заменит человеку «жажды верить». История нравственного падения человека является предметом всестороннего изображения в произведениях Достоевского и позднего Диккенса, в основе которых лежит преступление, чаще всего убийство.
Известно, что Достоевский проявлял особый интерес к болезненным изломам человеческой психики. Пристальное внимание к патологии человеческой души мы находим также и у Диккенса, который в двух своих последних романах провел психологическое исследование личности преступников (Хэдстоун, Джаспер). Диккенс рассматривал психологию преступника в плане индивидуальной психопатологии, считая, что даже «ученые, специально изучавшие этот вопрос, часто судят ошибочно о душевной жизни преступника, так как сравнивают ее с душевной жизнью обыкновенных людей» [12. c. 527-528].
Некоторые английские исследователи совершенно справедливо предполагают скрытое влияние Диккенса на Достоевского (влияние «подпольного Диккенса» на «подпольного Достоевского»). Э. Уилсон. [13. p. 301], а вслед за ним и Лари [4. p. 7], говорят о том, что Достоевский обнаружил у Диккенса «навязчивую идею» (obsession) о совершении убийства. Оба критика отвечают положительно на вопрос о том, вдохновил ли Диккенс Достоевского на описание преступления; при этом они считают, что Достоевский внес много нового в вопрос о психологии преступника. Наличие психологических схождений при описании душевного мира преступника показывает, что общие сюжетные и образные параллели, используясь Достоевским главным образом в качестве отправной точки, развивались им соответственно собственным идейно-художественным задачам.
Таким образом, творчество позднего Диккенса было близко Достоевскому в повышенном интересе писателя к кризисному состоянию человека, изломам его сознания и психики, что нашло выражение в произведениях английского и русского писателей, в ярко выраженной акцентировке сюжета, построенного на преступлении, в разработке картины духовного смятения преступника, в выборе художественных форм «фантастического реализма», в поэтике снов и видений.
Библиографический список
- Neljubov L. Charles Dickens. // Russky Vestnik. 1870. № 6. P. 81.
- Kulisher E. Dickens as a Criminalist. // Russian Thought. 1912. Book 5. P. 94 – 102.
- IRLI. Archieve of Sipovsky. File 279. № 55. P. 11.
- Gissing G. Charles Dickens. A Critical Study.London, 1898. P. 222.
- Lary N.M. Dostoevsky and Dickens. A Study of Literary Influence. London-Boston, 1973. P. 7.
- Katarsky I.M. Dostoevsky and Dickens ( 1860 – 1870) // Materials and Investigations. V.2. L. 1976. P. 283.
- Dickens Ch.Our Mutual Friend. The Modern Library.New York, 1992, P. 690.
- The Complete Collection of the Works of Dostoevsky. 30 vols. L. Vol 7. P.310.
- Otetchestvennye Zapiski. 1867. April. P. 520.
- Russky Vestnik. 1865. November. P. 336- 337.
- Complete Collection of the Works of Dostoevsky. 30 vols. L. Vol.25. P. 203.
- DickensCh.Our Mutual Friend. // The Complete Collection of the Works of Dickens. 30 vols.Moscow: Khudozhestvennaya Literatura, 1960. Vol. 27. P. 527- 528.
- Angus W. The World of Charles Dickens.London, 1973. P. 301.