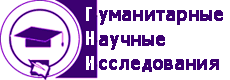Работа выполнена по гранту РГНФ 15-04-00229
Нельзя не согласиться с теми исследователями, которые отмечают, что к теме софийности и, в особенности, софиологии в русской религиозно-философской мысли проявляется повышенный интерес.[1] Отчасти повышенный интерес к теме объясняется её дискуссионными аспектами. В статье будут рассмотрены не все дискуссионные аспекты этой темы, поскольку полный их анализ потребовал бы увеличения объёма работы по итогам дополнительных специальных исследований.
Что касается темы софийности, т.е. рассмотрения образа Софии Премудрости Божией в древнерусской культуре то, казалось бы, она должна вызывать по преимуществу исторический интерес и не носить особого дискуссионного характера. Однако это не совсем так. Наряду с той несомненной истиной, что ведущий ракурс рассмотрения этой темы носит характер исторического исследования, в то же время легко может быть усмотрен и дискуссионный аспект в трактовке этой темы.
Если одни авторы, например, С.Н. Булгаков, М.Н. Громов, С.С. Хоружий при рассмотрении истоков темы Софии делают акцент на сложном, многоплановом характере этого образа, включающем смысловые пласты, связанные с мифологией, античной философией и христианством, то Н.К. Гаврюшин в своей интерпретации образа Софии в древнерусской и русской культуре обосновывает положение о том, что этот образ в древнерусской культуре означал Слово Божие, Иисуса Христа, а иные софийные образы имели истоки апокрифические, католические либо масонские.
По мнению С.С. Хоружего в философии С.Н. Булгакова «всюду выступает одна главная тема, один основной движущий мотив. Этот основной мотив философской мысли Булгакова есть оправдание мира – убеждённое, нередко эмоциональное утверждение ценности и осмысленности здешнего бытия и материального космоса».[2]
По Хоружему «философским средоточием» системы Булгакова является учение о мире, а ядро этого учения – концепция материи.[3]
Это весьма характерный акцент. Из трёх типичных отделов христианской философии – учений о Боге, мире и человеке в русской религиозной философии 19- первой половины 20 вв. акцент делается либо на мире (в софиологическом русле религиозной философии), либо на человеке (в экзистенциалистско-персоналистическом её русле).
И это, разумеется, не случайно, поскольку в постсредневековой христианской философии уже учитывалось новое возрожденчески-новоевропейское мироощущение и мировоззренческие акценты и конструкты, с учётом которых для человека оказываются раскрытыми два мира – посюсторонний и потусторонний в отличие от средневекового церковного христианского мировоззрения, в котором темы о мире и о человеке были раскрыты недостаточно.
А в отношении религиозно-философского дискурса Булгакова периода написания книги «Свет Невечерний» помимо упомянутой характерной расстановки акцентов в содержании религиозно-философской системы, следует указать на ещё одну новацию по части структуры религиозно-философской системы, а именно на то, что начинается она со своеобразного «гносеологического» введения, в котором представлены разные мотивы, не только идея «трансцендентального анализа» религиозного сознания, но и своеобразная личностная феноменология веры, фундирующая религию.
Понятно, что в классических средневековых схоластических системах указанные акценты и новации отсутствовали.
Принципиально важной для Булгакова становится тема материи. Для него неприемлемы ни чисто отрицательное понимание материи, ни признание божественности тварного мира (пантеизм), поэтому он выбирает своего рода среднюю линию, рассматривает материю как ничто, чреватое бытием.
Ещё одна важная сторона материи – её рождающий потенциал. Земля насыщена безграничными возможностями, она есть «всематерия», ибо в ней потенциально заключено всё. В этом отношении материя рассматривается как «Великая Мать», как «Мать-сыра земля».
Хоружий отмечает, что вслед «…за Григорием Нисским Булгаков утверждает, что после изначального творческого акта Бога дальнейшее развёртывание всего многообразия тварного бытия совершается при непременном творческом участии уже самой материи, самой «земли».[4] Вместе с тем, Булгаков не встаёт на путь деизма, обосновывающего научную трактовку тварного бытия после акта творения.
Если в понятии материи у Булгакова соединяются значения ничто и бытия, то бытийственная сторона материи должна быть раскрыта в её отношении к Богу. Эту бытийную сторону материи у Булгакова раскрывает учение о Софии как о Божественном мире, сущем в Боге прежде творения. В этом отношении София есть аналог платоновского мира идей.
А в связи с тем, что в православной догматике в сфере Божественного признаются лишь такие различения как Сущность, Ипостаси (Лица) Отца, Сына и Духа, и Энергии, принадлежащие Сущности, не только проблематично, но и прямо невозможно введение Софии в сферу Божественного.[5]
Шмеман высказал мнению, что софиология Булгакову совсем не нужна. Однако в смысле конструкции религиозно-философской системы софиология у Булгакова играет важную роль в преодолении негативистской трактовки материи, что в свою очередь было связано с его замыслом «оправдания» материи и мира. Можно ли было избежать перспективы платоновского рационализма? Можно, но при этом потребовалось бы встать на экзистенциально-персоналистическую онтологическую почву.
В статье М.Н. Громова «Софийная традиция в русской философии и культуре» (2013) отмечается возрастающий интерес «к одной из доминант нашей культуры – к возвышенному образу Святой Софии Премудрости Божией, который связует сакральное с эстетическим, премудростное с нравственным, эзотерическое с яркой выразительностью, сокровенное с понятными для всего народа воплощениями». [6]
На многочисленных примерах автор показывает значимость образа Святой Софии Премудрости Божией в древнерусской культуре. Решая задачу по возможности полного обзора образа Софии в древнерусской культуре, дополненного примерами из византийской, автор не встаёт на путь дифференцированного рассмотрения различных значений этого многосложного образа.
В статье Н.К. Гаврюшина «…И еллини премудрости ищут» (заметки о софиологии), в которой речь идёт и о софийной, и о софиологической темах, автор подчёркивает, что трактовку Святой Софии Премудрости Божией как «некоторого безипостасного представления…отвлечённой мудрости» необходимо признать ошибочной, поскольку Отцы Церкви понимали под Премудростью Воплощённое Слово, Иисуса Христа.[7]
У отдельных изображений Святой Софии Премудрости Божией в облике женщины автор усматривает либо апокрифические источники, либо объясняет их влиянием образов, рождённых на католическом Западе или в среде масонства. Таким образом, рассматривая софийную тему в древнерусской культуре ввиду того, что в образе Святой Софии Премудрости Божией соединены значения канонические, неканонические и внеканонические, Н.К. Гаврюшин не считает возможным ограничиваться только указанием на смысловую сложность этого образа, и настаивает на строгом различении канонических (Слово Божие, Логос, Иисус Христос), неканонических и внеканонических его толкований.
В роли основоположника софиологии в новейший период истории русской культуры выступил В.С. Соловьёв. Наиболее развёрнутая критика духовной и интеллектуальной почвы софиологии Соловьёва была дана Г.В. Флоровским с идейных позиций в дальнейшем именуемых неопатристическим синтезом.
Флоровский критиковал не столько софиологию Соловьёва, сколько общую духовную и интеллектуальную почву его философии. В такой идейной перспективе можно сказать, что опоре на православную мистическую традицию – исихазм Соловьёв предпочитал мистику западноевропейскую и иудейскую, а интеллектуальной почвой его философии были философские учения Шеллинга и Гегеля с присущими им пантеистическими тенденциями.
Но наиболее острый поворот темы софиологии связан отнюдь не с критикой Флоровским творчества Соловьёва, а с осуждением софиологического учения протоиерея Булгакова указом Московской Патриархии от 7 сентября 1935 года и Архиерейским собором РПЦЗ от 30 октября 1935 года софиологии как ереси. Поскольку рассмотрение софиологии Булгакова с догматической точки зрения сюжет специальный, сложный и во многом выходящий за рамки религиозно-философского анализа, здесь будет рассмотрена только позиция Флоровского.
Ниже будет предпринята попытка конкретизировать в философском плане формулу неопатристического синтеза.
Одним из важных религиозно-философских вопросов, также связанного с темой духовного и культурно-исторического самоопределения является выявление особенностей западноевропейской и византийско-православной христианских традиций. Не случайно этот вопрос неизменно оказывается в поле зрения русских религиозных философов от П.Я. Чаадаева и родоначальников славянофильства И.В. Киреевского и А.С. Хомякова до Г.В. Флоровского и до наших современников А.С. Панарина (1940-2003) и С.С. Хоружего.
Резюмируя результаты упомянутого сопоставления достаточно указать на то, что в указанных идейных и духовных традициях в основном по-разному понималось соотношение веры и разума. Для западно-христианской традиции типичной являлась ситуация, когда вера становилась по преимуществу предметом разумной интерпретации в гносеологическом измерении как источник сверхразумных истин, которые тщательно подсчитываются, как у Фомы Аквинского, и которым определяется надлежащее место в богословско-философских системах в отвлечении от онтологических и антропологических вопросов жизни в вере, обретения и утверждения веры, либо, это второй типичный план рассмотрения, феномен веры рассматривался только как иррациональный и самодостаточный, т.е. вне ракурса сопряжения веры и разума (ср. Бернар Клервоский и др.), что можно охарактеризовать как другую форму отклонения от истинного религиозно-философского рассмотрения.
Если первый подход характерен для западноевропейской схоластики, то второй – для католической мистики. Здесь речь пойдёт только о первом подходе, поскольку он представлял собой преобладающую средневековую западно-христианскую форму.
Относительно первого подхода в плане трактовки соотношения веры и разума нужно уточнить, что дело здесь не в разумной определённости как таковой, против которой в данном случае нет возражений, а в том, что вера по преимуществу рассматривается в перспективе разума, словно какая то важная деталь, призванная дополнить общую богословско-философскую систематику, а не сама по себе. Получается, что вера всегда некая данность, она всегда есть в некой статичной качественной определённости и её нужно непременно «учесть» в универсуме схоластической мысли. Но далее с верой не связывается никакая важнейшая творческая жизненно-практическая задача. В то время как со схоластическим разумом, с универсумом схоластической мысли такая жизненная творческая задача связывается. Можно сказать и так, что различие – в расстановке акцентов, но это не мелочь, а такая расстановка, за которой проглядывает различие приоритетов.
Не случайно, у философов-неотомистов есть такой план анализа как оценка равновесного или неравновесного состояния соотношения веры и разума. Например, полагают, что состояние равновесия веры и разума отличало философию Фомы Аквинского, а позднее было нарушено.
Действительно ли вера только иной источник знания или же непосредственно онтологически значимый личностный онтологический конструкт?
В византийской христианской традиции, как правило, вера не оказывалась на положении предмета познавательной перспективы разума, в роли источника сверхразумного з н а н и я, которое непременно следует учесть во всеобщей систематике схоластического разума, а полагалась как внутреннее начало, знание для «внутреннего» человека, в отличие от разума как внешнего знания для «внешнего» человека.
Различия эти ещё раз проявились и зафиксировались в полемике Г. Паламы с Варлаамом Калабрийским в противопоставлении парадигм энергийного богословия и теологии сущностей.
Правда, здесь не обойтись без уточнения в отношении энергийного богословия в плане призыва различать дух и букву учения.
Как представляется, при интерпретации общего феномена энергийного богословия важно делать акцент не только на его буквальном содержании как учения о божественных энергиях, призванного богословски обосновать мистический светоносный опыт исихастов, но и на общей конструкции этого учения, в котором единственным предметом интерпретации являются мистические результаты жизни в вере.
В последнем случае следует отметить, что, во-первых, акцент естественным образом приходится на проблематику веры, на плоды жизни в вере, что в общем плане является ещё одной, и в богословском отношении самой масштабной манифестацией коренной диспозии духовного и идейного измерения византийского христианства в пользу веры, жизни в вере, и, во-вторых, не исключающей философско-богословской рефлексии.
Это, несомненно, во-первых, линия преемственности с библейским мышлением, и, во-вторых, с традицией рефлексии богословской и религиозно-философской.
Усмотрев первый мотив – вера и библейское мышление иной читатель сразу может сказать, что именно в западно-христианской традиции акценты на вере и библейском мышлении были сделаны в протестантизме, начиная с ярких произведений Мартина Лютера о проблематике веры.
Такое указание будет содержать только часть истины, поскольку названные верные акценты у Лютера, кстати, косвенно указывающие именно на то, чего не хватало схоластическому дискурсу католицизма, сочетались с беспрецедентной и действенной манифестацией прагматического разума, устроившего суд над церковной традицией, подорвавший её, а впоследствии и разрушившей. Была актуализирована разрушительная диалектика – бесцерковная и лишенная традиционной опоры вера стала во многих случаях духовно вырождаться в протестантизме, обрастать мистическими искажениями и т.д.
Конечно, у Лютера были и открытия, помимо упомянутых, это – религиозный субъект. Но сложно делать акцент на достижениях тогда, когда они оказываются сопряжёнными с непоправимыми ошибками.
При истолковании формулы неопатристического синтеза, как представляется, в первую очередь внимание следует обратить на два момента: на принцип полноты, синтеза и на значение, на которое указывает приставка нео-.
В своих богословско-философских исследованиях Флоровский пришёл к выводу о полноте византийской богословской традиции, не нуждающейся в восполнениях, по крайней мере, со стороны традиций западно-христианских и т.д.
По Флоровскому, византийская православная духовная и идейная традиция значима в качестве образца.
Вместе с тем, в связи с тезисом Флоровского об образцово полном характере позднего византийского богословия, византийской духовности, об адекватной трактовке в ней начал веры, жизни в вере и внешнего знания, внешних наук в плане отстаивания в ней, с одной стороны – прав веры, а с другой – взаимодополнительности планов внутреннего знания и внешних наук, необходимы уточнения.
Одно дело, когда речь идёт об общем строе полноты византийской духовности, в которой адекватная трактовка начал веры сочеталась с признанием наряду с верой как внутренним знанием и наук как внешнего знания и верной трактовкой этого соотношения. И другое дело, одна из конкретизаций такого понимания полноты византийской духовной и идейной традиции в образе «византийского учёного», который неоднократно упоминается в «Путях русского богословия». Здесь необходимы дополнительные уточнения.
С Флоровским можно согласиться лишь в общем плане, что в образе византийского учёного можно усматривать образец лишь в том смысле, что в установках этого учёного недеформированное понимание христианской веры сочетается с профессиональными занятиями наукой, и в этом смысле можно говорить о значимой синтетической фигуре. Но можно ли сделать следующий шаг в идеализации этого образа и утверждать, что наряду с правильной трактовкой веры и важным положением о совмещении этого понимания веры с профессиональными научными исследованиями, с наукой, в этом образе византийского учёного содержится ещё и правильное понимание науки. Увы, нет. Не зря говорится, что зачастую недостатки суть продолжение достоинств. Именно потому, что в византийской культуре наука по отношению к вере трактовалась преимущественно как внешнее прикладное знание, в византийской культуре не произошло открытия теоретического разума. И дело здесь не в том, что Византия погибла, не успев принести плодов в виде науки современного типа, там не было признаков её формирования.
Генезис теоретического, научно ориентированного разума – это достижение западноевропейской культуры, к которому имеет отношение и тысячелетняя схоластическая традиция, в недрах которой проблематика разума была проработана настолько основательно, что диалектически способствовала открытию перспективы, в которой был возможен вопрос о разуме несхоластического типа, в конечном счёте, о теоретическом разуме, полагающем водораздел между наукой традиционного типа и современной.
Соответственно идеальный образ византийского учёного оказывается незавершённым и незавершимым, что делает невозможной перспективу замыкания только на византийской традиции при формировании идеального синтетического религиозно-философского образца, и полагает перспективу обращения к западноевропейской традиции теоретического разума, что означает, в известной мере, возвращение на «круги своя», ровно к той философской установке, которую сформулировал И.В. Киреевский в виде указания на необходимость сочетания в православном мышлении, в религиозно-философской систематике святоотеческой традиции и западноевропейской науки и образованности.
Разумеется, речь идёт не о механическом соединении различных традиций, а о религиозно-философском синтезе, в который составляемые начала должны входить в истинном понимании и в верном соотношении. Соответственно, критика заимствований из западноевропейской традиции не может носить характер полного механического отрицания всего невизантийского и несамобытного и т.д.
Как было отмечено, при раскрытии формулы неопатристического синтеза внимание следует обратить помимо принципа полноты на содержание, на которое указывает начальная часть сложных слов нео-, вносящая значение: новый. Речь идёт о призыве к новому диалогическому соизмерению современного «эллинизма» и библейского мышления в контексте патристической традиции.
В философском смысле, как представляется, речь идёт о такой религиозно-философской программе, в которой метафизический рационализм софиологического типа не рассматривается в качестве центрального звена.
[1] Громов М.Н. Софийная традиция в русской философии и культуре // Вестник славянских культур. Т. 28. 2013. № 2. С. 5
Библиографический список
- Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. 415 С.
- С.Н. Булгаков: pro et contra. СПб., 2003. Т.1. 996 С.
- Гаврюшин Н.К. «…И еллини премудрости ищут». Заметки о софиологии // Его же. По следам рыцарей Софии. М., 1998. С.69 – 113.
- Громов М.Н. Софийная традиция в русской философии и культуре // Вестник славянских культур. Т. 28. 2013. № 2. С. 5 – 17.
- Хоружий С.С. София – космос – материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова // С.Н. Булгаков: pro et contra. СПб., 2003. Т.1. С. 816-853.