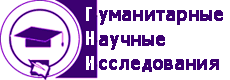Работа выполнена по гранту РФФИ № 19-012-00261
I
Ввиду того, что многие свои мысли Киреевский выразил фрагментарно, конспективно, в исследовательской литературе воззрения Киреевского реконструируются. Не переходя к рассмотрению этой проблемы в целом, т.е. к полному обзору исследовательских реконструкций воззрений Киреевского, обратим внимание на центральное для Киреевского учение о внутренней цельности знания, точнее на одну из его формулировок, в которой речь идёт о двух состояниях личностных сил и способностей: «… в глубине души есть живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого…». [1, С. 319] Дальнейшие пояснения Киреевского дают повод для неоднозначных толкований. Слова Киреевского об общем средоточии отдельных сил и способностей в глубине души, о слиянии всех отдельных сил «в одно живое и цельное зрение ума» можно понимать не только как единый организм сил и способностей души, в составе которого учтена каждая сила и способность, и которые, в преобразованном относительно своего первоначального эмпирического состояния виде, а и как погружение в единое мистическое состояние, в котором гаснут, теряются особенности, отдельные силы души и т.д.
В мистических состояниях сознание преобразуется таким образом, что стирается дифференциация особенного, подчас даже членораздельного (невыразимые состояния), остаётся только целое переживания, которому в содержательном плане может приписываться различная качественная определённость.
С философско-антропологической точки зрения, т.е. в ракурсе аналитики специализированного на философии человека раздела общей философско-мировоззренческой систематики, увлечение мистикой может свидетельствовать не только о потребности получить объяснения, аналогичные философским (как в случае с созерцательной мистикой), но и о стремлении перестроить сферу аффектов.
Впрочем, в случае с Киреевским вряд ли можно говорить о каком-либо чрезмерном увлечении мистицизмом.
С другой стороны слова Киреевского можно толковать таким образом, что силы ранее разобщённые, через преобразование, углубление, т.е., по сути, определённым образом трансформированные, дооформленные, входят во взаимодействие (в качестве проработанных, соизмеренных, в учтённых своих границах и возможностях).
Впрочем, смысл рассуждений Киреевского о внутренней цельности знания лучше проясняет указание философа на тезис о добровольном подчинении разума вере. [1, с. 319]
Вместе с тем, Киреевский в полной мере осознаёт сложность последнего тезиса и, по своему, пытается раскрыть эту сложность.
Если первая интерпретация носит мистический характер, то вторая – философский (философско-антропологический).
В работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», поясняя идею цельного внутреннего знания, Киреевский говорит о поиске такой установки, в которой была бы невозможна автономия различных сил человека от духовно-нравственного центра. «Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Одним чувством понимают они нравственное; другим – изящное; полезное – опять особым смыслом; истинное понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда её действие совершится. Каждый путь, как предполагают они, ведёт к последней цели, прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение». [1, с. 274] «Вообще можно сказать, что центр духовного бытия ими не ищется. Западный человек не понимает той живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других; то равновесие внутренней жизни, которое отличает даже самые наружные движения человека, воспитанного в обычных преданиях православного мира, ибо есть в его движениях даже в самые крутые переломы жизни что-то глубоко спокойное, какая-то неискусственная мерность, достоинство и вместе смирение, свидетельствующие о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания. Европеец, напротив того, всегда готовый к крайним порывам, всегда суетливый – когда не театральный, – всегда беспокойный в своих внутренних и внешних движениях, только преднамеренным усилием может придать им искусственную соразмерность». [1, с. 274 - 275]
Киреевскому важно подчеркнуть, что недостаточно только в умозрении, интеллектуально признать в бытии духовное начало, Бога-Творца, но и в душе человека практически следует найти духовный центр. Это, собственно, антинатуралистическая и антирационалистическая личностгная онтологическая установка.
Эти размышления Киреевского могут быть прояснены в контексте размышлений о религиозном натурализме (материализме) и рационализме. Наряду с признанием в разного рода религиозных и религиозно-философских учениях общей религиозной картины мира, предусматривающей выведение практических следствий для человека, может быть поставлен и вопрос о том, как именно рассматривается соотношение духовного и материального? В известной мере от содержательной глубины упомянутого рассмотрения, выражающегося и в богатстве следствий, зависит, насколько последние повлияют на убеждения человека.
Киреевский подчёркивал, что православный человек ищет в своей душе, в своей внутренней жизни духовный центр, вокруг которого собираются все силы души, не довольствуясь более поверхностными схемами религиозных воззрений, совместимыми в определённом смысле и с обычным, естественным состоянием ума.
В этой связи также уместен вопрос, какой характер носит практическое углубление в религиозное содержание? Есть точка зрения, что теоретический, однако это не так, если иметь в виду точный смысл термина теоретический. Другая распространённая точка зрения – этический смысл; тем более, что в особенности в Евангелие есть много указаний которые рассматриваются как этические; здесь также важно не упускать из вида феномен «этической рационализации смысла религии». И, наконец, третье мнение – речь идёт о смыслах экзистенциально-психологических и духовно-онтологических. Учение Киреевского о цельном внутреннем знании, скорее всего, следует понимать в русле третьей точки зрения.
Что касается взгляда Киреевского на национальный характер русских и европейцев – православная «умеренность» и европейские «крайности», то следует отметить, что в последующей русской религиозно-философской мысли с легкой руки Ф.М. Достоевского утвердился взгляд прямо противоположный высказанному Киреевским. Теперь русскому национальному характеру приписывается склонность к крайностям, европейцы же в большей мере характеризуются рассудочной умеренностью. В последнем смысле о русском национальном характере вслед за Достоевским рассуждали Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и др. Впрочем, позиции Киреевского и Достоевского несложно примирить, если принять во внимание, что первый рассуждал о православных русских, о человеке православной традиции, акцентируя идеализированный образ православного русского, в то время как второй в основном изображал человека современного типа, переходного времени, утрачивающего почву православной традиции, человека разумно-прагматического поиска, человека в страстях, уходящего или ушедшего с путей веры.
Нужно отметить, что в философской интерпретации учения Киреевского о цельном знании можно говорить не только о ракурсе философско-антропологическом, здесь возможна и более общая интерпретация. В последнем случае речь пойдёт об исходной схеме философского учения, в совокупности его подразделов: гносеологическом, онтологическом, аксиологическом и др. А.К. Судаков в подразделе 6 «Умозрение цельности как христианская философия цельной жизни» в монографии «Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского», реконструируя философские воззрения Киреевского, говорит об идее соединения планов естественного (рационального) и духовного (трансрационального) в сложном иерархическом единстве, основывающемся на видимом господстве духовного момента. [2, с. 73-74]. Наиболее отчётливо общефилософский смысл основополагающего учения Киреевского о цельности внутреннего знания представлен в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии».
В случае с учением Киреевского о цельном знании, скорее всего, следует говорить, как предполагал ещё В.В. Зеньковский, об ориентации Киреевского на святоотеческое учение о различных состояниях разума в случае ориентации на внешнее, естественное и в случае преобладания в нём внутренних, духовных интересов. [3, с. 213]
В связи с философскими исканиями Киреевского, связанными с осмыслением святоотеческого наследия, следует сказать о ещё одном моменте. Киреевский подчёркивал, что в философии (в религиозной философии) совершенно недостаточно рассматривать традиционную для религиозной философии проблему соотношения веры и разума односторонне, а именно, в плане разъяснения различий разума и веры с целью оправдания веры перед лицом разума.
В определённых обстоятельствах не менее важна и другая сторона проблемы соотношения разума и веры – обоснование прав разума, сосуществующего с верой. Важно подчеркнуть, что Киреевский, в определённой мере испытавший влияние эпохи просвещения, не готов забыть и о тех истинах, которые содержится в просветительских максимах о том, что всё в бытии должно предстать перед судом разума, о сне разума, рождающем чудовищ и др., разумеется, без забвения того, что абсолютизированный разум также становится источником серьёзных проблем, как и любое абсолютизированное относительное.
В теоретической установке разум рассматривается как автономный, самодостаточный, в противном случае нарушается само существо теоретической установки, ракурс теоретического разума утрачивается в принципе. Другое дело, рассматривается ли указанная теоретическая установка как единственно возможная также и на общефилософском философско-мировоззренческом уровне. В случае положительного ответа речь идёт о научном, теоретическом философском мировоззрении, сопряжённым с материализмом или с позитивистским метафизическим агностицизмом.
Вопрос о двуплановом рассмотрении проблемы соотношения веры и разума (в ракурсах утверждения, как прав веры, так и разума) рассматривался Киреевским, который, с одной стороны признавал примат веры над разумом в пределах компетенции веры, с другой – отвергал иррационалистическую перспективу отъединения веры от сопряжения с разумом. Разумеется, вера иррациональна, внерациональна по существу. Это вполне понятно. Вопрос не в этом, а в том, каково место веры в философско-мировоззренческой систематике – идёт ли здесь речь исключительно о философии веры (например, в смысле Л. Шестова) или же о философии, в которой наряду с философией веры признаётся необходимым известное сочетание начал веры и разума в интересах полноты онтологической ориентации.
Киреевский выступал сторонником второй позиции. В общем плане могут быть указаны два основания такой позиции. Это опыт его собственных размышлений, в которых ему открылась недостаточность односторонних позиций – философии веры или философии разума. В качестве второго истока указанной позиции Киреевского выступала святоотеческая традиция в аспектах учений о разуме естественном и цельном внутреннем, о человеке внешнем и внутреннем, о науках внешних и внутренней. Соответственно, есть основания усматривать истоки синтетической тенденции, присущей зрелой философии Киреевского в учениях святоотеческой традиции.
Но дело не только в том, чтобы усмотреть необходимость, если можно так выразиться, «двустороннего» сочетания веры и разума, но и в том, чтобы и вера и разум входили в это сочетание в истинных определениях. Важно, чтобы вера входила в это сочетание не только в гносеологическом ракурсе как источник сверхразумных истин, но и непременно бы раскрывалась жизнь человека в вере в библейском смысле как духовный источник жизни наряду с материальным.
Соответственно, невозможно обойтись и без рефлексии об истинных определениях разума.
Помимо философско-антропологической (философской) сторон учения Киреевского разработанными сторонами его воззрений являются философско-историческая и социально-философская; последняя представляет собой славянофильское учение в узком социально-политическом смысле, справедливо рассматриваемое в истории общественно-политической мысли, хотя и в последнем случае не обойтись без некоторых уточнений. Дело в том, что одно дело какими были результаты социально-философских размышлений славянофилов о российском обществе, а также то, как они воспринимались и интерпретировались, другое, какими были их намерения, формировавшиеся в том числе и в логике поиска путей христианского преобразования общества, т.е. как минимум здесь можно усматривать подступы к теме христианского обустройства социума. В силу исторических условий в российской историографии на протяжении большей части ХХ века воззрения славянофилов рассматривались преимущественно с этой последней социально-политической стороны, в результате чего время от времени даже требовались специальные разъяснения истинного религиозно-философского смысла славянофильских воззрений. Что касается философско-исторических воззрений Киреевского, то они здесь специально рассматриваться не будут, ибо эти взгляды Киреевского не отсылают прямо к учениям святоотеческой традиции. Ограничимся только краткими замечаниями.
Философско-исторические воззрения Киреевского строились на сопоставлении путей исторического развития Европы и России. Своеобразие исторического пути Европы, по Киреевскому, во многом обусловил заимствованный от античности принцип формальной (отвлечённой) рациональности, повлиявший и на западноевропейское христианство. Влияние принципа формальной рациональности на западноевропейское христианство проявилось в искажении смыслов христианского учения, постепенно приведшее к схизме и другим последствия: к реформации, к утрате христианством искажённым, расколотым, враждующим влияния на общество и культуру, к выходу на первый план отвлечённого разума, его развитию вплоть до возникновения, наряду с тенденцией самоутверждения отвлечённого разума, исторической тенденции его теоретического и мировоззренческого самоограничения.
Западно-христианский мир не сумел найти равновесие принципов христианской традиции и разума, к обретению этого равновесия в определённых тенденциях византийского православия двигался восточно-христианский мир, однако падение Византии привело к забвению или к маргинализации византийских восточно-христианских синтетических тенденций.
«Что же оставалось делать для мыслящей Европы? Возвратиться ещё далее назад, к той первоначальной чистоте этих основных убеждений, в какой они находились прежде влияния на них западноевропейской рассудочности? Возвратиться к этим началам, как они были прежде самого начала западного развития? Это было бы делом почти невозможным для умов, окружённых и проникнутых всеми обольщениями и предрассудками западной образованности. Вот, может быть, почему большая часть мыслителей европейских, не в силах будучи вынести, ни жизни тесно эгоистической, ограниченной чувственными целями и личными соображениями, ни жизни односторонне умственной, прямо противоречащей полноте их умственного сознания, чтобы не оставаться совсем без убеждений и не предаться убеждениям заведомо неистинным, обратились к тому избегу, что каждый начал в своей голове изобретать для всего мира новые общие начала жизни и истины, отыскивая их в личной игре своих мечтательных соображений, мешая новое со старым, невозможное с возможным, отдаваясь безусловно самым неограниченным надеждам, и каждый противореча другому, и каждый требуя общего признания других. Все сделались Колумбами, все пустились открывать новые Америки внутри своего ума, отыскать другое полушарие земли по безграничному морю невозможных надежд, личных предположений и строго силлогистических выводов». [1, с. 253-254]
Многообразие идеологической, философской и культурной жизни в новоевропейский период Киреевский справедливо связывает с эрозией религиозной традиции и выдвижением на первый план отвлечённого разума. Вместе с тем, Киреевский далёк от прямолинейной и упрощённой схемы рассуждения по типу «отход от христианства – возвращение к нему», хотя, разумеется, определённая доля истины в таком рассуждении есть. Как представляется, здесь нужно различать два плана рассмотрения. В одном противопоставляются вера и неверие, и тогда для религиозного философа выбор представляется вполне ясным и определённым. В другом плане на первом месте оказывается спор о путях христианской политики с целью осмысления и преодоления «исторической неудачи» христианства, секуляризации как исторической тенденции первоначально на христианском Западе, а затем и в других христианских странах и в мире. Дискурс Киреевского, а впоследствии и Г.В. Флоровского преимущественно разворачивается во второй плоскости в отличие, к примеру, от воззрений Ф.М. Достоевского, в основном развивавшихся в первом русле, но не исключительно, к слову, размышления Достоевского и первого, и второго плана чрезвычайно важны.
Рассуждая о началах истинного христианства, к которому должен вернуться Запад, Киреевский опирался на православную традицию совместно с религиозной философией, православным мышлением, которое он в свою очередь намеревался утвердить на сочетании принципов святоотеческой традиции и новейших результатов западной образованности. По сути дела Киреевский говорил о новой синтетической творческой задаче, решение которой не могло быть сведено ни к простому возвращению к традиции, ни к выдвижению ещё одной идеологии.
Синтез, к которому был устремлён Киреевский, он пояснял не только посредством высшего понятия цельного знания, в котором утверждалась иерархия понятий гносеологических, этических, эстетических и др. с верхней ступенью веры, но без подмены, замещения исключительно верой этой иерархии ступеней, но и изображая идеальный тип православного верующего, у которого «свободное развитие естественных законов разума не может быть вредно для веры…», ибо вера «для него не слепое понятие, которое потому только в состоянии веры, что не развито естественным разумом…», для которого вера также «не один внешний авторитет, перед которым разум должен слепнуть, но авторитет вместе внешний и внутренний, высшая разумность, живительная для ума». [1, с. 319]
В рассуждениях о цельном знании, о православном мышлении Киреевский пытался сформулировать кардинальную синтетическую идею соотношения веры и разума, традиции и разума таким образом, чтобы указанные понятия, сочетались в синтетической конструкции, взаимодействовали не взаимно разрушительным образом, что являлось задачей новой и сложной.
С этими обращёнными в будущее размышлениями Киреевского можно сравнить замыслы В.С. Соловьёва, который, подобно Киреевскому, был озабочен тем, в каком облике в современной культуре должен быть представлен синтез христианской культуры для распространения христианства, для его нового исторического наступления. В отличие от Киреевского, стремившегося к такому сочетанию понятий традиции[1], (здесь нужно пояснить, что понятием традиции Киреевский оперировал фактически, сопоставляя традиции западно- и восточно-христианские и т.д., без рефлексивной тематизации проблематики традиции, которая впервые была осуществлена в творчестве родоначальника традиционализма Р. Генона, а впоследствии вошла и в научный гуманитарный дискурс) веры и разума, в котором было бы сохранено своеобразие этих понятий, Соловьёв стремился преодолеть «отчуждение» современного ума от христианства путём преодоления несоответствующей христианству неразумной, т.е. традиционной формы. «Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, т.е. разумную, безусловно, форму…». [4, с.126]
В отличие от Киреевского, критиковавшего отвлеченную разумность, равно как и другие способности души в отвлечённом состоянии, стремившегося к поиску модели синтетического иерархического сочетания понятий веры, традиции, разума, Соловьёв рассуждал о «великой задаче» введения христианства в разумную форму в духе рационалистических идеалов времени, не просто критиковал в известных аспектах, возможно, даже во многих (что уместно), но отвергал бытие христианства в «неразумной» форме традиции, фактически стремился к логоцентристскому, просветительского типа замещению традиции разумом, к превращению метафизического разума в основную опору.
Если в философском замысле Киреевского приоткрывались новые интеллектуальные и культурно-исторические горизонты, то замысел Соловьёва представлял собой несколько парадоксальный неосхоластического типа просветительско-христианский синтез, типологически аналогичный новоевропейскому синтезу христиански ориентированного метафизического рационализма (Шеллинг и Гегель).
II
В творчестве Г.В. Флоровского тема святоотеческого наследия не сразу стала ключевой. Первоначально сферой мировоззренческих и творческих интересов Флоровского была русская религиозно-философская мысль, в особенности, философия В.С. Соловьёва. «Очевидно, построения провозвестника философии всеединства оказали сильное влияние не только на ход мыслей одесского вундеркинда, но и непосредственно на его духовное формирование».[5, с.27]
Ввиду принципиального значения философии Соловьёва для существа интеллектуальных и духовных исканий раннего Флоровского, отношение последнего к творчеству Соловьёва может послужить критерием разделения творчества Флоровского на периоды ранний, просоловьёвский и зрелый, постсоловьёвский. Если первоначально (до осени 1922 года). [6, с. 287]
Флоровский разделял широко распространённую оценку Соловьёва не только как наиболее крупного русского религиозного философа (что практически стало общепринятой оценкой), но и как религиозного философа, идущего верным путём, то в последующем Флоровский приходит к прямо противоположной оценке философского творчества Соловьёва.
Высокая оценка Флоровским творчества Соловьёва также убедительно доказывается материалами, приведёнными в статье П.Л. Гаврилюка «Парадигмальный сдвиг в историософии Г.В. Флоровского: об истории создания курса лекций «Философия Вл. Соловьёва». [6, с. 284-302]
Усматривая в творчестве Соловьёва плодотворный путь для русской религиозно-философской мысли, Флоровский, без сомнения, в этот период не мог не оценивать положительно и софиологическую школу Соловьёва в религиозно-философском ренессансе начала ХХ века. Учитывая, что часть софиологов входили и в веховское движение, можно предполагать и косвенную идейную приобщённость Флоровского к веховскому движению в этот период.
Впрочем, здесь важно не забывать, что Флоровский не переживал характерной для его старших современников эволюции «от марксизма к идеализму» (веховцы) и от народничества к идеализму (Л. Шестов), и не переоценивать степень близости Флоровского к исканиям веховцев. Для того чтобы не обращаться здесь к спору о терминах, отмечу, что основной пафос веховцев был связан с преодолением философско-мировоззренческих установок материализма, натурализма, позитивизма, сциентизма, атеизма и левых революционных, с возвратом к ценностям религиозным, консервативно-либеральным и консервативным.
Но в тени этой первой и основной для веховцев задачи различались и контуры другой – в многообразии возможных путей поиск истинных в религии, богословии, религиозной философии.
Конечно, в творчестве веховцев уделялось внимание решению обеих задач, можно говорить лишь об относительном преобладании первой над второй.
Что касается Флоровского, то, благодаря тому, что он в своё время не переживал разрыва с религией, для него не была актуальной и проблематика возвращения к религии, столь значимая, в частности, для С.Н. Булгакова [7]
Для Флоровского в молодости центральным был не вопрос о вере или неверии, но проблема обретения своего пути в свете требований религиозных и мирских (избрать ли путь мирянина или клирика; ученого, религиозного философа или богослова; учёбу в университете или в духовной академии), а в зрелые годы - вопрос об истинном пути в религиозной философии и богословии.
Соответственно в творчестве Флоровского проблематика второго типа явно преобладает над первой. Последняя концептуально почти не выражена, зато всесторонне разработана проблематика второго типа, вплоть до выработки новой богословской и, в известном смысле, и религиозно-философской программы неопатристического синтеза, довольно широко распространённой оценкой которой является её трактовка как лидирующей программы в современном православии. [5, с.6]
В период приверженности философии Соловьёва, Флоровский утверждал, что у неё два источника – святоотеческая традиция и немецкий идеализм. Во второй период Флоровский стал иначе смотреть на источники философии Соловьёва: «Генетически философия Соловьёва была связана с западноевропейским пантеизмом (Спинозой, Шопенгауэром), с древней и новой гностикой (александринизмом, Каббалой, «немецкой мистикой»), с бессистемными попытками спекулятивного преодоления рационализма (у Шеллинга и Баадера). И собственный мистический опыт Соловьёва был существенно не церковен, имел ярко сектантский уклон: его прозрения о Вечной Женственности качественно несоизмеримы с церковным опытом Софии, запечатлённым преимущественно в иконографии. Недаром сам Соловьёв, в пору написания своих «Чтений о богочеловечестве», «настоящими людьми» называл Парацельса, Беме, Сведенборга, находил подтверждение своему опыту у Пореджа, Арнольда и Гихтеля. Соловьёв бездонно укоренён в «природно-вдохновенной» мистике Запада, в «теософизме» Якоба Бёме, который ещё Шеллингом был опознан как рационализм». [8, с.206]
О начале поворота Флоровского от признания авторитета религиозно-философского учения Соловьёва к опоре на авторитет церковной традиции свидетельствует приводимое А.В. Черняевым письмо Флоровского Н.А. Бердяеву: «У меня сейчас настроение острой чувствительности ко всему безответственному и религиозно-надуманному в русском светском брожении: критика и сомнения обращены, прежде всего, на себя самого. Весь вопрос в том, имеем ли мы право говорить, не то, чтобы я сомневался в праве мирян говорить и действовать, я имею в виду нас. Мы слишком ещё мало вросли в церковь и пожалуй надо ещё учиться – врастать, как-то постараться освободиться от связи с современностью, чтобы Фиваида и студийская обитель стали нам роднее религиозно-философ(ских) обществ, чтобы Никейские и Халкидонские отцы стали для нас современнее арх(химандрита Феодора) Бухарева и Достоевского, чтобы отпала жажда новизны. Это и есть подлинный церковный ревизионизм». [5, с. 61]
В письме скорее раскрываются устремления, намерения Флоровского, чем объясняется происходящее. Впрочем, понятно, что Флоровский настроен критически в отношении духа современности. В этой связи можно указать на явно обозначающуюся закономерность – поворот Флоровского к церковности (церковной традиции) в более широком контексте, чем содержание письма, сопровождается критикой метафизического рационализма (в вариантах пантеизма, панэнтеизма, метафизического утопизма и т.д.) и в рамках схемы «разум-традиция» может рассматриваться как своего рода переход, используя выражения В.С.Соловьёва, от установки «разум критерий традиции» к принципу «традиция критерий разума». Иными словами, закономерно, что отказ от критериев «объективности» метафизического рационализма приводит к поиску критериев объективности, в контексте «объективизма» церковной традиции.
Здесь также можно обратить внимание на то, насколько эти «традиционалистские», «архаизирующие» устремления Флоровского далеки от пафоса статей С.Н. Булгакова, в которых последний, в стремлении реабилитировать метафизику критиковал идею прогресса, и, в частности, «закон трех стадий» О. Конта. У Булгакова – последователя В.С. Соловьёва и у Флоровского очевидным образом разная «глубина» и мировоззренческая основа переосмысления духа современности – рационалистическая метафизика всеединства у первого и приверженность к православной традиции (в сочетании с признанием необходимости диалога с современностью) у второго.
Что касается философии Соловьёва, то нужно также отметить, что первый синтез в философии Соловьёва, основанный на идеях завершения развития отвлечённого рационализма на Западе, восполнения философии отвлечённых начал философией цельного знания, объединяющей в познании бытия философию, науку и религию, и который определил принципиальные основы философии Соловьёва[2], был осуществлён не без влияния философских размышлений И.В. Киреевского. Сравним мнение В.В. Зеньковского: «Надо отметить, что ещё в 1877 г. появилась в печати (незаконченная) работа Соловьёва «Философские начала цельного знания». Работа эта, представляющая первый очерк философской системы Соловьёва, чрезвычайно ярко вскрывает то направление, по которому движется творческая мысль Соловьёва, оставшегося, по существу, верным до конца жизни идеям, высказанным в указанной работе» [3, с.461]
С самого начала Соловьёв писал не только о конструкте цельного знания, представляющего собой синтез науки, философии и религии, которая может быть условно обозначена как синтез гносеологического плана, но и формулировал онтологию в духе метафизического рационализма. В дальнейшем этот первый философский синтез у Соловьёва дополнялся новыми компонентами, кроме того, он всё более фокусировался на полюсе онтологии всеединства – учение о Софии и т.д.
Разумеется, объективная оценка философии Соловьёва не может строиться как односторонняя (негативная или позитивная), но должна основываться на выделении в ней положений преходящих и непреходящих. К числу последних, как представляется, принадлежит положение о синтезе философии, науки и религии как основы для раскрытия бытия.
Изменение отношения Флоровского к творчеству Соловьёва было проявлением глубокой перестройки его взглядов на истинные пути и в религиозной философии, и в богословии.
Для первого периода творчества Флоровского было характерно относительное преобладание: 1) науки над религией (особенно в университетский период); 2) мирского над священством; 3) синтеза философии, науки и религии над традицией. В этой связи нужно заметить, что вопрос о соотношении разума и традиции (разум ли является критерием традиции или традиция критерием разума (формулировки В.С. Соловьева – С.Б.), либо речь идёт о сочетании, взаимодополнительности этих начал) носит парадигмальный характер.
Во второй период творчества Флоровского акценты в указанных соотношениях меняются на противоположные: 1) священство преобладает над мирским началом; 2) богословие над религиозной философией и над наукой; 3) традиция теперь выступает как один из важнейших ориентиров личного творчества.
Что же собой представляет зрелый творческий синтез Флоровского? Можно ли его рассматривать как односторонне традиционалистский, исключительно как консервативную реакцию на черты религиозного модернизма нового религиозного сознания и на другие глубокие кризисные события современности? Или же речь идёт о ещё одном, вслед за Киреевским, опыте поиска традиционалистско-модернистского синтеза, который вёлся ощупью, эмпирически, интуитивно, вне специальной тематизации и концептуализации, осуществлённой усилиями философов и учёных-гуманитариев значительно позднее, благодаря философскому оформлению традиционализма в творчестве Р. Генона, а также развитию проблематики традиционного, модернистского и постмодернистского социокультурных типов в гуманитарных науках (первоначально – в теории индустриальной цивилизации Р. Арона и т.д.)?
На первый взгляд воззрения зрелого Флоровского действительно могут рассматриваться только как консервативная реакция на новое религиозное сознание. И доля истины в таком утверждении, несомненно, есть. Но был ли Флоровский последовательным консерватором-традиционалистом в духе консервативных идеалов К.Н. Леонтьева, настроенного на принципиальное отрицание начал западной современности, а не на диалог с ней, (кстати, также считавшего образцовым «аскетическое» византийское православие)?
Для ответа следует учесть, что Флоровский призывал не только к воспроизводству святоотеческой традиции, но и к нео-патристическому синтезу. Для мыслителя было принципиально важно призывать не к возвращению к патристической традиции, как будто бы в её буквальном повторении содержится вся полнота истины, но обосновывать необходимость нового синтеза, в котором бы были бы соединены, диалогически соизмерены начала традиционные и современные. Флоровский давал понять, что в случае с неопатристическим синтезом речь идёт о творческой задаче, решение которой во многом ещё предстоит найти. Флоровский имел в виду задачу поиска синтеза и, тем самым, и в известном смысле – баланса начал традиционных и современных, поэтому его позицию нельзя определить как последовательно, односторонне традиционалистскую.
Другой вопрос, насколько Флоровскому удался искомый синтез, можно ли сказать, что он был в полной мере осуществлён, или же ему в основном удалось только привлечь внимание к необходимости подобного синтеза, а не осуществить его?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо уточнить основания, в соответствии с которыми Флоровский, безусловно, настаивал на необходимости включения традиции в неопатристический синтез и почему он фокусировал внимание именно на святоотеческой традиции.
Как известно, религия представляет собой феномен комплексный и многоплановый и религиозные мыслители, в зависимости от своего видения приоритетов, выдвигают те или иные актуальные задачи, из которых одной из важнейших является задача сохранения, воспроизводства собственно религиозной традиции.
Дело в том, что сохранение верности традиции это и признание её истины, и способ сохранения её во времени. А сохранение религиозной традиции, в которой аккумулирован опыт поколений, одно из важнейших условий сохранения религии, защиты её от разного рода субъективистских искажений. Образно говоря, если вера составляет «живую душу» религии, то традиция образует её «тело».
Но здесь важно подчеркнуть, что, отстаивая святоотеческую традицию, и в полной мере понимая важность традиционалистской церковности для сохранения религии от разрушения и от субъективистских искажений, Флоровский весьма акцентировал её синтетический характер как христианского эллинизма и, судя по тому, что в своей богословской программе он придал вид синтеза неопатристического, идею синтеза начал христианской религии и культуры эпохи Флоровский рассматривал как не менее существенную, чем идею сохранения верности церковной традиции.
Святоотеческую традицию Флоровский выделял потому, что в ней осуществился синтез христианского эллинизма, т.е. христианства (в единстве таких его сторон как библейская вера, принципы вероучения, церковная традиция и др.) и начал эллинской культуры; тем самым в святоотеческом наследии оказалась зафиксирована своего рода «общая формула» синтеза христианства с началами культуры любой эпохи, включая и современность. В современности Флоровский предлагал не просто воспроизвести святоотеческое наследие (хотя такое воспроизведение и само по себе задача немаловажная), но по образцу святоотеческого синтеза христианского эллинизма, призывал осуществить неопатристический синтез, в который бы вошли и христианство и культурные начала современной эпохи, разумеется, в виде, совместимом с принципами христианства.
Здесь следует особо подчеркнуть синтетический план размышлений Флоровского, его акценты на синтетическом характере святоотеческой традиции. Но при осмыслении синтетического плана построений Флоровского следует указать не только на то, что он акцентировал тему сочетания начал библейских и античных, религиозных и культурных, традиционных и современных.
Не менее важным является второй момент в размышлениях Флоровского, а именно, указание на различные типы синтеза в традициях восточно-христианской и западно-христианской.
Этим традициям присущи различные по форме и по содержанию, типы синтеза, соотношения наук внешних, мирских и внутренней, духовной, веры и разума, разума и традиции, начал культурных и духовных. В этом соотношении вера как основное содержание духовной жизни, заявляется, не только как начало не менее существенное, чем жизнь разума, но, в своих границах и как более существенное. Однако подлинное возвышение веры достигается не за счёт отказа от признания значимости разума, внешних наук и т.д. Зрелым плодом восточно-христианской традиции явилось паламитское энергийное богословие, в котором и был явлен один из приверов указанного синтеза и т.д.
Речь идёт о принципе полноты, о сочетании духовной и культурной традиций. Говоря об этом принципе полноты С.С. Хоружий отмечает, что такая «…полнота развития в нашей исихастской традиции была реально явлена, существовала в истории в последние десятилетия существования Византийской империи, века полтора. Это, в основном, 14 век. Тогда существовала развития традиция на уровне практики, на уровне мистического опыта, но она включала в себя и высокоразвитые культурные измерения. Культура поздней Византии осуществляла себя именно в этой примыкающей, ассоциированной парадигме по отношению к духовной традиции. Соответственно, сложившаяся система имела все предпосылки к существованию и к плодоносности». [9]
Этот принцип полноты представляет собой истинное достижение, поскольку в нём с одной стороны утверждалось фундаментальное значение веры в духовной жизни, а с другой – постигалась и утверждалась неизбежность «составного» характера общемировоззренческого знания, включающего науки как внутренние, так и внешние.
В этом принципе полноты, во-первых, в истинном соотношении утверждались науки внутренние и внешние, здесь не происходила деформация этого соотношения, т.к. разум не полагался инстанцией, покровительственно разрешающей вопросы веры, принципом, постепенно замещающим собой веру, ибо без жизни в вере невозможно восхождение к Средоточию бытия, во-вторых, в этом принципе полноты нет игнорирования и значимости для самого принципа полноты знания внешних наук; в этом принципе не было основы для развития тенденции неприметного мировоззренческого соскальзывания на почву естественного для формирования почвы обмирщения и секуляризации.
Очевидно, что в этом принципе полноты воплощена парадигма, содержащая в себе иной путь в сравнении с отстаиванием исключительно религиозной традиции или только пути разума, утверждающееся в качестве сущности бытия.
То, что этот принцип полноты, органически связанный с несущей его восточно-христианской традицией оказался «пропущен» и тем самым «замещён» проблематичным схоластическим синтезом или же заведомо односторонними началами, не только породило одностороннее развитие и кризисные явления, но и обусловило новый цикл поиска принципа полноты истины.
Разумеется, указанный принцип полноты не может рассматриваться как совершенный во всех отношениях. Его очевидный недостаток – внешние науки в нём рассматривались по принципу античного знания, здесь не подготовлялся переход к знанию новоевропейского типа. Поэтому в случае разработки идеи неопатристического синтеза в религиозно-философском отношении не избежать обращения, в частности, к новоевропейской проблематике теоретического разума.
Соответственно восполнение религиозно-философских размышлений до подлинной полноты синтеза принципов духовного и культурного невозможно не только без восточнохристианской, но и в известном смысле без западно-христианской традиции и её культурных интенций и следствий, что является развитием, конкретизацией старого, сформулированной ещё И.В. Киреевским принципа православного мышления как религиозной философии, с необходимостью ориентированной на начала святоотеческой традиции и на диалог с новейшими результатами западного просвещения.
К тому, что уже было сказано про актуальность задачи сохранения традиции можно добавить ряд соображений. В общем плане следует отметить, что одной из важнейших проблем религии является лишенное субъективистских трактовок понимание мира сверхестественного, невидимого. Основные контуры этого понимания заданы общепризнанным содержанием вероучения. Однако, вопреки мнению многих людей, далёких от темы, в религии, и, в особенности, в «примыкающих» областях, например, в богословии, и, в особенности, в религиозной философии, существуют и области достаточно свободных толкований точек зрения. Это область светской религиозной философии, область личных богословских мнений в теологии, аналогичная область личных мнений в мистике.
В этой связи в религиозной сфере достаточно актуальной является задача преодоления религиозного субъективизма разного рода (индивидуального, группового и т.д.). К примеру, в науке субъективизму противостоят объективирующие принципы теоретического разума. В религии, основанной на вере и церковной традиции теоретический разум, по определению, не может играть эту роль. В указанном примере с религией, как представляется, важнейшим средством недопущения, преодоления и т.д. религиозного субъективизма является ориентация на традицию церковности. В случае же отказа от принципа церковности или ослабления его значимости неминуема угроза религиозного субъективизма, разрушения религиозной традиции и религии.
В общем плане можно сказать, что религиозный мыслитель решает две группы задач, которые условно могут быть обозначены как субъектные и объективные. К числу субъектных относятся вопросы личной веры, объективных – вопросы бытия самой религии. Теоретически для религиозного мыслителя это две в равной мере важные задачи, т.к. без веры, хотя религия и объективно существует, но не в качестве актуального смысла для неверующего, с другой стороны, без института религии невозможна и сама личная религиозная вера.
В идеальном случае религиозные мыслители в равной мере уделяют внимание обеим группам проблем, однако на практике проблематика каждой из групп проблем может в разной мере тематизироваться, концептуализироваться, в зависимости от направленности творческих интересов мыслителя. Например, таких мыслителей как С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Л. Шестов, Н.А. Бердяев, Г. Марсель преимущественно интересовала тематика экзистенциально-персоналистического плана, т.е. полюс субъектного в универсуме религиозной мысли. В отличие от указанных мыслителей, Флоровского в большей мере интересовала проблематика «объективного» полюса религиозного мышления, проблематика сохранения религиозной традиции.
Как выше уже говорилось, на творчество Флоровского можно взглянуть с ещё одной точки зрения, а именно, в сопоставлении с социально-философской теорией, в которой в динамике исторического процесса последовательно рассматриваются традиционалистский, посттрадиционалистский модернистский и постмодернистские социально-исторические типы и тенденции. В сравнении с теоретическим творчеством, размышления Флоровского нередко имеют вид дискурса феноменологического. Вместе с тем, богословско-философское творчество Флоровского, его эволюция по своему последовательны, и представляют собой интуитивистски-феноменологическую разработку «матриц» традиционалистской, модернистской и постмодернистской, последняя истолкована в русле синтеза начал традиционалистских и модернистских (идея традиционалистско-модернисткого синтеза). [10, с. 168-175]
О чём здесь, т.е. в случае идеи традиционалистско-модернистского синтеза, собственно говоря, идёт речь? Об осознании заведомой односторонности только традиционалистского и (или) только модернистского принципов религиозного сознания, и соответственно о поиске традиционалистско-модернистской целостности.
В данном случае это понимание продуктивного пути в сфере религиозного сознания, но, быть может, это продуктивный путь и в плане социокультурного синтеза? Разумеется, здесь не место обстоятельно рассматривать этот вопрос. Ограничимся лишь краткими указаниями. Следует обратить внимание на своего рода односторонности миров традиционного и современного. Если первый лишён принципа субъектного, интеллектуальной инициативы, науки современного типа, научных технологий и т.д., однако владеет смыслами органического строя бытия, понятным образом осваивается, в этом смысле лишен отчуждения и т.д., то о втором нередко говорят, что при всех научно-технических достижениях в нём оказывается нарушенным смысловое равновесие субъектного и бытийственного, преобладает субъектно-рациональная доминанта, своеобразная воля в могуществу и т.д. Понятно, что наиболее важным звеном, связывающим миры традиционный и современный являются мировые религии, в своём облике сочетающие многие черты традиционного мира, а также испытывающие влияние со стороны современности. Традиционные религиозно-мифологические смыслы многоплановы, в частности, здесь можно говорить об «онтологическом реализме» – взгляде на бытие как на арену противоборства духов добрых и злых, сил добра и зла, начал божественных и антибожественных в противовес последующим онтологическим мировоззренческим парадигмам «натуралистического нейтрализма» природы в отношении человека, «оптимизма» (как результата прогрессистских усовершенствований), «пессимизма» (в случае декаденстского краха оптимизма) и т.д.
Смысл подобных поисков – разработка возможного и желательного сценария будущего. Выделяются три варианта будущего: постмодернистское продолжение модернизма, антимодернистский традиционалистский реванш и построение социокультурного типа в духе традиционалистско-модернистского синтеза.
Но основываются эти размышления на философской рефлексии о традиционалистско-модернистском синтезе.
Если говорить об общем принципе традиционалистско-модернистского синтеза, то это никак не могут быть ни начала традиции, ни принцип традиции, ибо в противном случае будет иметь место лишь рецидив традиционалистского мышления (дофилософского). Принципом синтеза может быть лишь философское установление значимых и продуктивных феноменов, в некоторых существенных моментах структурно соответствующих традиционным началам и через это получающих большую конкретизацию и глубину.
Только указанное конкретное рассмотрение и конструирование сможет показать, много ли будет таких соответствий, насколько они будут существенными и можно ли будет в итоге говорить о значимости традиционалистко-модернистского синтеза.
Творчество Флоровского второго периода можно рассматривать как интуитивно-феноменологическую попытку богословско-философского варианта традиционалистско-модернистского синтеза, отличного как от безрефлексивной, рутинной, досубъектной приверженности традиции, так и от неизбежных (вследствие отказа от традиции) разного рода субъективистских крайностей модернизма.
Каковы же результаты творческого синтеза Флоровского, можно ли сказать, что в нём достигнуто идеальное равновесие начал традиционалистских и модернистских, нет смещения этого равновесия ни в одну из сторон? Положительно на этот вопрос вряд ли можно ответить, т.к. у синтеза Флоровского есть недостатки. Во-первых, у Флоровского лишь намечены, слабо проработаны фундаментальная для религии антропологическая (личностно-антропологическая) тема, тема субъекта веры и свободы; во-вторых, Флоровский в большей мере декларировал интерес к современным идеям, чем интегрировал их в свой синтез; в-третьих, богословско-философская рефлексия у Флоровского оказалась вне определённой связи с общественно-политическим планом (в то время как такая связь по-прежнему весьма важна для русского самосознания, хотя время ослепления русских политическими идеологиями, похоже, проходит) и что ещё важнее, с социально-философским планом, (ибо социально-философский план проблемы ре-христианизации по-прежнему остается неразработанным); в-четвертых, центральная у Флоровского идея неопатристического синтеза оказалась скорее лишь эскизно намечена, чем последовательно раскрыта.
Однако эти недостатки не отменяют главного, того, что Флоровскому удалось найти синтетический путь, по которому пошло развитие православного богословия в современности, значимый не только для богословия, но и для религиозной философии, и, в более широком плане, для самосознания русской культуры, а то, что в этом синтезе не всё удалось («перевесила» религиозно-традиционалистская сторона синтеза традиционалистско-модернистского, религии и культуры), только ещё одно свидетельство в пользу того, насколько сложно в творческом синтезе продвигаться к новому, неизвестному.
В заключение следует подчеркнуть, что в осмыслении святоотеческого наследия в творчестве Киреевского и Флоровского, в учении о естественных состояниях ума и внутреннем цельном знании первого и в рассмотрении святоотеческого наследия как христианского эллинизма и роли последнего как образца для неопатристического синтеза у второго, в указании на тип византийской образованности как сочетания наук внешних и внутренней, духовной, акцент делался на синтетических аспектах святоотеческих учений, сохранивших своё значение для богословских и религиозно-философских построений в современности.
Фактически здесь очерчивалась религиозно-философская программа, складывавшаяся в русле восточно-христианской традиции, но оставшаяся имплицитной. Киреевский сформулировал философскую программу разработки «православного мышления», в которой намеревался совместить традиции восточно-христианскую и философскую, но она осталась нереализованной. Что касается Флоровского, то его критика философии Соловьёва оказалась не введением в разработку иного варианта религиозной философии, а решающим пунктом на пути эволюции Флоровского от религиозной философии к богословию, т.е. и Флоровский не разработал систематически никакой определённой религиозной философии, но лишь наметил её эскиз. Вместе с тем, указанная выше собственно религиозно-философская задача не может рассматриваться как утратившая актуальность.
В заключение ещё раз подчеркнём, что идею цельности, синтетическую идею можно рассматривать как ключевую в философской интерпретации Киреевским и Флоровским святоотеческой традиции. Говоря о цельном знании, о христианском эллинизме, о синтетической формуле византийской образованности и, словно отвечая на знаменитый вопрос Льва Шестова: «Афины или Иерусалим?», и Киреевский, и Флоровский утверждают: «И Иерусалим, и Афины; и вера, и разум; и традиция, и разум; и внешние науки, и внутренние», настаивая при этом на восточно-христианском типе синтеза.
И в случае с положением Киреевского о внутреннем цельном знании, и с трактовкой Флоровским святоотеческого наследия как христианского эллинизма, акценты делаются на необходимости включения в состав мировоззренческого комплекса начал веры и разума в одном отношении как иерархически выстроенных, с признанием главенства веры в утверждении религиозных смыслов, а в другом – как необходимо взаимодополнительных с признанием их автономии по отношению друг к другу.
[1] Здесь нужно пояснить, что понятием традиции Киреевский оперировал фактически, сопоставляя традиции западно- и восточно-христианские и т.д., без рефлексивной тематизации проблематики традиции, которая впервые была осуществлена в творчестве родоначальника традиционализма Р. Генона, а впоследствии вошла и в научный гуманитарный дискурс.
[2] Ср. мнение В.В. Зеньковского: «Надо отметить, что ещё в 1877 г. появилась в печати (незаконченная) работа Соловьёва «Философские начала цельного знания». Работа эта, представляющая первый очерк философской системы Соловьёва, чрезвычайно ярко вскрывает то направление, по которому движется творческая мысль Соловьёва, оставшегося, по существу, верным до конца жизни идеям, высказанным в указанной работе» (Зеньковский В.В. История русской философии. Харьков, М., 2001. С.461.)
Библиографический список
- Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С.319. – 439 с.
- Судаков А. К. Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского. М., 2012. 464 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии. Харьков, М., 2001. – 880 с.
- Цит.по Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. – 480 с.
- Черняев А.В. Жизненный путь Г.В. Флоровского // Георгий Васильевич Флоровский. М., 2015. – 517 с.
- Гаврилюк П.Л. Парадигмальный сдвиг в историософии Г.В. Флоровского: об истории создания курса лекций «Философия Вл. Соловьёва» // Историко-философский ежегодник 2015. М., 2015. С. С. 284-302.
- Раздел «Введение» в книге Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1999. – 416 с.
- Флоровский Г.В. В мире исканий и блужданий // Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. М., 1998.- 431 с.
- Хоружий С.С. Духовная и культурная традиции в России в их конфликтном взаимоотношении http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_bilingua.pdf (дата обращения 18.01.2018).
- Черняев А.В. Неопатристический синтез как встреча Традиции и Модерна // История философии. Научно-теоретический журнал. 2016. Т.21. № 1. С.168-175.