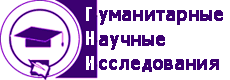Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского за 105-летнюю историю своего существования прошел несколько этапов развития, связанных с деятельностью режиссеров, возглавлявших его в разное время. Период работы в театре Романа Михайловича Мархолиа (р. в 1961 г.) был достаточно непродолжительным (1990 – 1993).
После принятого В.С. Петровым, бывшим главным режиссером Севастопольского театра в 1986-1989 гг., предложения возглавить Национальный академический русский театр драмы имени Л. Украинки в Киеве, Мархолиа становится во главе севастопольского театра в 1990 г. До этого, в качестве приглашенного режиссера, он создал на этой сцене «Наш городок» Т. Уайлдера (1987). Далее молодой режиссер поставил еще несколько спектаклей: «Гарольд и Мод» К. Хиггинса и Ж.-К. Каррьера (1988), «Ложные признания» П. Мариво и «Рождественский обед» Т. Уильямса, П. Туррини, Т. Уайлдера (оба — 1989), «Лавидж» П. Шеффера (1990), «Тряпичная кукла» У. Гибсона и «Кандид» Вольтера — Л. Бернстайна (оба — 1991), «Молочный фургон здесь больше не останавливается» Т. Уильямса (1992). Почти все они созданы в соавторстве с художницей Ириной Нирод (главным художником театра была Г.Е. Бубнова). По ним существует обширная пресса, в основном местная — севастопольская и крымская. В центральной печати вышла единственная, достаточно подробная, статья Е. Дмитриевской в журнале «Театр», и еще одна (А. Смольякова) — в газете «Правда». Пресса, хотя и помогавшая в целом получить представление о спектаклях, не давала ответа на вопрос: какова была их поэтика?
Имеет смысл проанализировать приемы и методы режиссерской методологии Р. М. Мархолиа, а также определить основные параметры его постановок (сюжет, жанр, способ компоновки материала и т. д.).
Спектакли Мархолиа, как отмечалось большинством критиков, сильно отличались по своей постановочной манере от работ Петрова, и почерк молодого режиссера был узнаваем в каждой его новой постановке. На поверхностные отличия двух режиссерских манер указал в первых же строках статьи в «Правде» А. Смольяков, объясняя интерес советской театральной общественности к севастопольскому «театру времен Петрова»: «Яркий, “солнечный”, контрастный, он пришелся по душе севастопольцам. И неудивительно, что далеко не все приняли “Наш городок” в постановке… Романа Мархолиа. Иная эстетика, полутона, лунная гамма красок. Но искушенный зритель уловил общее у этих разных художников: взгляд на театр как на праздник чувств, заставляющий задуматься о жизни, о смерти, о любви — о человеке» [1, 3].
Действительно, разница в режиссерском почерке оказалась столь ощутима, что представила собою проблему, сказавшуюся на посещаемости спектаклей. Чтобы понять ее истоки, обратимся к анализу работ Мархолиа на сцене севастопольского театра. Прежде всего, очевидно, что все они созданы по произведениям зарубежных авторов (причем большинство пьес написано в XX веке). Вероятно, молодой режиссер ориентировался на громкие зарубежные постановки тех лет. Возможно, количество зарубежной драматургии за относительно небольшой период оказалось чрезмерным для театра с достаточно консервативными вкусами, и причина неприятия постановок Мархолиа кроется только в этом. Но предположим, что причины были иными, из которых, в первую очередь, очевидно отсутствие «солнца в крови», столь заметное у созданий Мархолиа, особенно после спектаклей Петрова. Во-вторых — их эстетизм, преобладание формы над содержанием. Самая главная разница между двумя художниками определяется сразу: она — в мироощущении, которое диктовало как способ руководства театром и обращения с труппой, так и выбор материала и методологии его воплощения. В спектаклях Петрова было видно ярко выраженное социальное начало, в работах Мархолиа — скорее поэтическое.
Вероятно, наиболее содержательным, если верить собственным зрительским впечатлениям и рецензиям, был первый спектакль постановщика — «Наш городок», в котором отразились самые характерные черты творческой манеры молодого режиссера. Наряду с двумя спектаклями Петрова эта постановка также была записана центральным телевидением. Во времена, когда в стране отмечалось повсеместное снижение интереса к театральной жизни, это свидетельствовало о признании за театром определенной профессиональной планки.
Композиция действия была традиционной. С самого начала действия режиссер следовал авторской ремарке: «Занавеса нет. Декораций тоже почти нет. Зрители, входя в зал, видят слабо освещенную сцену». Уверенно заявляла о себе пластика, ставшая самым узнаваемым приемом режиссуры Мархолиа. Ее автором был В. А. Ананьев, специально приглашенный актер Московского театра пластической драмы, созданного М. Мацкявичусом. Размеренно постукивая каблуками, жители Гроверс-Корнерс небольшой толпой перемещались по сцене приставными шажками от кулисы к кулисе. Уайлдеровский Помощник режиссера превратился в обобщенно-театральную условную фигуру — Человека от театра, в роли которого был занят Виталий Полусмак. Некая мистериальность появлялась в теневом театре в этой первой сцене постановки, когда взорам зрителя представала его огромная дирижирующая тень: он был здесь подобен кукловоду, организующему действие, и мизансценически противопоставлен толпе жителей. Объявив начало нового дня, он мановением руки заставлял всех обитателей городка занять свои места, и действие продолжалось. Человек от театра вдруг оказывался безмолвным свидетелем разговора хозяек, заготавливающих бобы, и благодарил их за беседу. Действие прерывалось странными отстраняющими пластическими интермедиями, когда все во главе с Человеком от театра вдруг застывали, воздев руки, а затем снова возвращались к привычным делам.
Для иллюстрации домов миссис Уэбб и миссис Гиббс на той же пустой и полутемной сцене появлялись столы и стулья, и режиссер с самого начала заявлял о всех лейтмотивных приемах. Сразу же на сцене возникал относительно небольшой серебристый шар, качающийся на тросе, сперва незаметный, а по мере плавного течения спектакля набирающий значимость.
Теневой театр обозначал и сцену спевки в церкви Конгрегации. Вынесенный на задний план, он становился фоном для беседы Эмили и Джорджа, а они, взобравшись на лестницы, словно тянулись к луне, в которую превращался взмывший к колосникам шар. На нем акцентировала внимание Е. Дмитриевская: «… Качающийся маятник, шар на длинном шнуре, — одна из метафор спектакля — включает в себя несколько значений. Он похож на каменную бабу, сносящую старые дома. Он же, взметнувшись ввысь, превратится в луну, не дающую спать обитателям городка… Спустившись вниз, шар оказывается качелями для юной, влюбленной Эмили (Л. Корнишина)» [2, 52]. Шар, особенно в ипостаси каменной бабы, не мог не вызывать ассоциации с кинофильмом Ф. Феллини «Репетиция оркестра» (1978), тем более, что в конце спектакля он выполнял такую же отрезвляющую, предостерегающую роль.
Музыкальное оформление спектакля (его автор — Б.В. Люля) «работало» на его общий замысел, придавая мистериальность действию: «Звучащие на сцене и за сценой хоралы и псалмы не просто дают действию верный настрой, но уравновешивают два одинаково важных плана: сиюминутный, преходящий — и возвышенный, вневременной, соединяя прошлое и настоящее, мертвых и живых» [2, 53].
Режиссер «спрессовал» действие, вместив два акта пьесы в один, который длился час, и смягчил переход к следующему, происходящему на кладбище, лишив свадьбу Эмили и Джорджа веселья, запланированного драматургом. Вместо веселой музыки на ней также торжественно звучал хорал, а слова Человека от театра, читавшего текст священника, разносились, усиленные динамиками. Танец новобрачных и их гостей был обращен к зрительному залу. Внезапно сцена пустела, и Человек от театра оказывался наедине с луной-шаром, спустившейся вниз. «Антракт», — иронически выкрикивал он, хохоча.
Второй акт снова начинал он, прячась за толпой с китайским зонтиком в руке. Толпа также двигалась мелкими шажками, под ту же музыку, только сверху свисали полотнища, похожие на паруса. Второй акт был еще более статичен за счет неизменной мизансцены: Эмили разговаривала с другими умершими на кладбище, которое изображалось с помощью того, что все сидели на поставленных в ряд стульях.
«Люди не понимают, что такое жизнь, пока они живы», — говорит в финале пьесы Помощник режиссера, но Мархолиа лишил этих слов героя В. Полусмака. Он констатировал, что пробило одиннадцать, и замечал, что «всем пора отдохнуть». Раскачивая опустившуюся луну-шар, он удалялся своей «танцующей, поскрипывающей походкой» [2, 52], как написала о нем Е. Дмитриевская. Скорее, походка эта напоминала скольжение на коньках, и создавалась за счет того, что нога, оторвавшись от земли, не сразу опускалась, — так двигались в спектакле и другие персонажи.
По мысли Е. Дмитриевской, Человек от театра олицетворял собою Время, но в спектакле не находилось подтверждения такому мнению критика. Даже сам его внешний вид говорил об обобщенной театральности: «Набеленное лицо, черный котелок… — в облике Ведущего есть нечто от Пьеро А. Вертинского и от Конферансье из знаменитого “Кабаре” Б. Фосса» [2, 52]. Он участвовал во всех происходящих событиях. Этот персонаж, созданный игровым способом, вступал во взаимодействие с остальными, в которых преобладало проживание, а также со зрителями. Герой В. Полусмака чаще всего обращался непосредственно к ним, например, с просьбой «вспомнить свою первую любовь: “Вспомнили? Прекрасно!”» [2, 52] Так делала и мать Эмили, рассказывая о жизни дочери в родительском доме.
Е. Дмитриевская считала, что «игра с воображаемыми предметами, заданная самим драматургом, создает особый эффект, придавая бытовым сценам бытийный объем» [2, 52]. Пожалуй, это скорее создавало эффект отстранения, некую иллюзорность действия. И это вовсе не отменяло точного и тонкого проживания ролей главными героями. Непосредственный и самоотверженный Джордж С. Мезенцева, прекрасная и нежная Эмили Л. Корнишиной, заботливая миссис Уэбб С. Рунцовой с ее чарующим мелодичным голосом и врожденной грацией движений, — все они казались живыми людьми в придуманном постановщиком иллюзорном мире, а отстраненность Человека от театра лишь подчеркивала этот диссонанс.
Спектакль был о ценности жизни и о власти времени над человеком. Но его идея рассказывалась словно со стороны, в нем не было персонажа, которого можно было бы уподобить лирическому герою режиссера.
Е. Дмитриевская писала о сходстве постановки с триптихом, созданным в 1989 году — «Рождественский обед» Т. Уильямса, П. Туррини, Т. Уайлдера. Особенно напоминал «Наш городок» первый акт по пьесе того же драматурга: «Любимые драматургом — и режиссером — темы спрессованы, сжаты здесь в одноактную пьесу. … В глубине сцены на протяжении всего действия спиной к залу сидит пианист-импровизатор. <…> Все персонажи “Обеда” одеты в униформу — знак того, что время ничему не учит людей, в своем легкомыслии к жизни все они равны. <…> Из “Городка” перекочевала в “Обед” и игра с воображаемыми предметами — семья мастерски “делит” несуществующую рождественскую индейку» [2, 54-55].
В триптих также вошли «Растоптанные петунии» Т. Уильямса и «Охота на крыс» П. Туррини. Из рецензии критика неясно, какова была совместимость этих пьес в едином режиссерском замысле. Можно предположить, основываясь на ее описании того, что «после их [персонажей “Охоты на крыс”] гибели в глубине сцены возникнет ожившая фотография — семейный портрет из “Долгого рождественского обеда”, как напоминание о другом веке, кажущемся сегодня золотым, с его еще незыблемыми ценностями» [2, 55-56], что общая идея спектакля была в том, чтобы прославить значимость дома и семейных связей. Его композиция, судя по всему, также была традиционной.
Е. Дмитриевская права в том, что «родственность программы театра Петрова и театра Мархолиа, при всей их несхожести, в идее — идее театра-праздника, противостоящего будничным заботам, реальной бедности в прямом и переносном смысле слова» [2, 56]. В описываемый период этой идеей критики пытались придать дополнительную привлекательность постановкам Мархолиа, в частности, его «Ложным признаниям». Спектакль держался в репертуаре четыре года, и за это время прошел 139 раз. Для сравнения, период проката спектакля «Наш городок» — почти в два раза дольше, но он прошел всего лишь 67 раз.
Е. Дмитриевская писала о том, что в постановке пьесы П. Мариво «особенно наглядна идея театра-праздника». Она подробно описывала сценографию: «В основе… оформления — эстетика старинного театра. <…> Важнейшая часть спектакля — красочные костюмы: изысканные по цветовым сочетаниям и отделке камзолы, фижмы, изумительные по изобретательности парики» [2, 56]. Вызвавший наибольшее восхищение критика (да и других рецензентов, писавших о творчестве Мархолиа) парик госпожи Аргант, на котором возвышался огромный золоченый парусник, много лет спустя «играл» в детской сказке, где был весьма уместен своей иронической подачей.
Постановщик использовал прием введения некоего организатора действия: слуга Дюбуа (С. Мезенцев) выводил на сцену персонажей-масок, что позволило критику назвать его [Дюбуа] «“режиссером” задуманного им представления» [2, 56].
Этот спектакль А. Смольяков назвал «радостным и изысканным, как сам автор» [1, c. 3]. Он так описывал постановку: «Действие происходит как бы на экране музыкальной шкатулки, где персонажи, появляясь с одной стороны сцены, совершают ритуальный круг и исчезают с другой. В первой сцене “шкатулка” только что заведена, фигуры полны энергии, они — почти люди. В последней — тот же танец, что и в прологе, но “завод” кончается, и перед нами просто куклы…» [3, 11]
Об истинной любви — и спектакль «Гарольд и Мод», о котором тот же критик написал: «Элементы театра Востока и грегорианские хоралы, призрачная атмосфера существования героев и цвета заката костюм героини — все это таинственным образом взаимодействует между собой» [1, 3].
Е. Дмитриевская считала, что он «удивительно “вписывается” в контекст новых спектаклей Р. Мархолиа» [2, 58], поскольку взаимодействие в нем мертвых и живых придает происходящему оттенок мистериальности. Конечно же, критику запомнилась Людмила Борисовна Кара-Гяур в роли Мод. Актриса представала то сплетением черт «любительницы абсента и тулуз-отрековских клоунесс», то напоминала «Федру Расина — в черном плаще и шляпе с блестящим полумесяцем, рождающим ассоциации с легендарным кооненовским шлемом» [2, 58]. Е. Дмитриевская сделала важное наблюдение, характерное в целом для творчества актрисы: «Мод — Л. Кара-Гяур может быть и серьезна и значительна, как сама Жизнь» [2, 58].
«Лавиджу» посвящена еще более значительная пресса. Любопытно сравнить его со спектаклем, который режиссер поставил в Санкт-Петербурге спустя несколько лет после отъезда из Севастополя. Те критики, что становились на защиту спектакля, в изысканных выражениях описывали сами декорации: «Мархолиа отобрал у зрителей первые девять рядов партера, выдвинув туда помост и полностью оголив сцену, одев ее в благородные черные одежды. Таким образом, он властно ввел в действие Театр, но внедрил его в зрительский мир, очистив все от бытового мусора. В общем, вместе с киевским художником Владимиром Карашевским организовал пространство для притчи» [4, 3], — писал театровед В. Оренов.
Е. Дмитриевская также видела в спектакле «тему высокого предназначения Театра, дающего надежду»: «Оформление спектакля, его образ создаются массовкой — толпой экскурсантов, одетой в прозрачные, полиэтиленовые накидки. <…> Но вот героиня начинает безудержно фантазировать… — недавно скучавшая толпа образует живописные группы, современные плащи превращаются в средневековые костюмы, как бы сами собой вырастают на участниках массовки гофрированные, стоячие воротники елизаветинских времен» [2, 57]. По мысли критика, «пустая, “голая” сцена в этом спектакле — одна из метафор одиночества, бесприютности Леттис» [2, 57]. Достаточно мало анализируя актерскую игру, Е. Дмитриевская уделяет основное внимание режиссерской концепции, согласно которой «“Лавидж” — это прекрасно “смоделированный” праздник, захватывающее зрелище» [2, 57]. За роль Шарлотты Шенн Нина Белослудцева была объявлена лучшей актрисой года, а Мархолиа признал, что она «превзошла его позитивные предположения» [5, c. 3]. Но, по утверждению критиков, настоящим открытием оказалась работа ее партнерши: «…Леттис Ольги Разумовской — это больше, чем удача. Леттис-Разумовская беспрестанно играет, сохраняя при этом искренность ребенка. Игра как способ познания и преобразования мира, как способ творения красоты пронизывает весь спектакль» [1, 3]. Актрисе удалось «сыграть неиграемо, искусством воплотить неискусственное» и действительно, по мнению не только многих зрителей, видевших спектакль, но и семинара театральных критиков, «переиграть кошку» [4, 3].
При описании петербургской постановки (Театр на Литейном) в рецензиях угадывались отзвуки того впечатления, которое произвел севастопольский спектакль. Ю. Кобец считал, что «спектакль Романа Мархолиа каскадом обрушивается на зрителя, щедро проливаясь и “разбрызгиваясь” в зрительный зал» [6, 4].
Режиссер полностью перенес на сцену Театра на Литейном свой севастопольский спектакль и даже привлек к его оформлению тех же соавторов (сценография — Владимира Карашевского и музыкальное оформление — Бориса Люля).
Но санкт-петербургская пресса включила в себя и тех, кто спектакль не принял, усмотрев в нем тиражирование приемов провинциального театра. Нагляднее всего (самим заголовком) мнение автора демонстрирует статья К. Добротворской «Петербургский спектакль в эпоху его технической воспроизводимости»: «Далеко не лучшая пьеса автора “Эквуса” и “Амадеуса” поставлена в тех же минималистских декорациях и с тем же выдвинутым вперед деревянным сценическим помостом, что и в Севастополе (сценография Владимира Карашевского). Массовка в полиэтиленовых платьях так же вычурно застывает в живых картинах из жизни старой Англии. Пьеса Шеффера написана о власти фантазии и воображения, но именно фантазии недостает режиссеру, чей спектакль отмечен странной вялостью, грубоватостью мизансценического решения, затянутостью и отсутствием ритма» [7, 13].
Признавая блестящие работы приглашенной из ТЮЗа И. Соколовой-Леттис и Т. Щуко-Шарлотты, в чем пресса единодушна, другой критик замечал относительно И. Соколовой: «…актриса брошена на почти не прикрытую (в буквальном смысле тоже) площадку, и изволь два-три часа выкручиваться без постановочной поддержки» [8, 6].
Тот же Л. Попов констатировал: «Мархолиа привносит провинциальные сценические приемы десятилетней давности: актер крупным планом, актер-звезда, примеривающий “маску роли”, массовка, противостоящая герою прежде всего своей неслаженностью и т. д.» [8, 6].
Характерно, что постановщик потом повторил без изменений в Санкт-Петербурге, на сцене БДТ, и следующий свой севастопольский спектакль — «Тряпичная кукла» У. Гибсона. Создается впечатление, что воспроизведение именно эффектных внешних особенностей действия становится его главной задачей. Автор одной из статей (может быть, невольно) улавливает те уязвимые точки режиссуры Мархолиа, которые признают многие критики — меланхолическую «затянутость», излишнюю зависимость от внешних изобразительных средств.
Примечательно, что севастопольскую постановку «Тряпичной куклы» заведующий литературной частью театра Б. Эскин назвал генеральной репетицией следующего спектакля — «Кандида» Вольтера — Л. Бернстайна. Полюс его восприятия также простирался от бурных восторгов до полного отторжения (в первую очередь, директором театра М.Е. Кондратенко). Пресса полна положительных отзывов о работе актерского ансамбля, в первую очередь, Виталия Полусмака — исполнителя восьми ролей, в том числе Вольтера и Панглоса. «Его Вольтер первым появляется на сцене и последним покидает ее. Он автор, режиссер и непосредственный участник бесконечной цепи чудес и розыгрышей. По его воле начинают петь и танцевать страстные латиноамериканцы на площади Картагены или нежно звучать скрипки. Кстати, вплетенная в ткань спектакля живая музыка (в исполнении камерного оркестра под управлением Владимира Кима) создает особую радостную атмосферу уникальности, неповторимости происходящего» [9, 3], — писала Л. Антонова. Она же отмечала: «Исполнителям главных ролей не хватает подчас отстраненного взгляда на свои персонажи, ироничного отношения к собственному пению. <…> Мастерски организованное художником Ириной Нирод сценическое пространство, дающее возможность для постоянных трансформаций, обозначения множества мест действия, все же не прозвучало в моем сознании в унисон с музыкой Бернстайна. В отличие от художественного оформления, ее мелодии напоминают скорее плавные линии модерна, чем четкие конструктивистские установки» [9, 3].
Не первый раз в определении спектаклей Мархолиа возникало слово «красота»: на сей раз, «всепобеждающая, красота как самоцель… навязчиво бросающаяся в глаза» [10, 8]. С. Пальчиковский характеризовал постановку следующим образом: «“Кандид” — навязчивая демонстрация утонченной красоты, вплоть до мелочей, до слитков золота, то ли настоящих, то ли призрачных, но упакованных обязательно в красивую обертку» [10, 8]. Критиком отмечены «веселая пестрота 120-ти новых костюмов, дразнящая новизной и разноцветьем. Контрастное сочетание черных старинных стульев и бело-пенных лодочек, проплывающих по сценической площадке… переливающиеся витражи конструкций, водруженных на сцене», «шикарное появление оркестра» и прочие «причуды разгулявшейся фантазии» [10, 8] И. Нирод.
Но С. Пальчиковский также говорил о чужеродности «тяжелых холодных конструкций легкой озорной музыке Л. Бернстайна и калейдоскопически разнообразным приключениям героев» [10, 8]. Заслуживает внимания его мнение о состоянии актерского ансамбля: «Грандиозный труд проделан театром в освоении сложного вокального материала. Результат стоит, несомненно, затраченных усилий, но сложно не заметить некоторого ученического однообразия в трактовке музыкальных номеров. <…> Холодок бежит по жилам лицедеев. Кажется, они ощущают себя марионетками: и Т. Бурнакина (Куниганда) с кукольным застывшим взглядом, и обычно привлекательно мастеровитый, но страшно тусклый в “Кандиде” С. Мезенцев (Максимилиан), и совершенно невнятный, приземленно-успокоенный С. Санаев (Кандид)… <…> Даже В. Полусмак, получивший в дар от Р. Мархолиа семь ролей…не успевает ни в одной высказаться до конца с необходимым блеском…» [10, 8] Положительного отзыва удостоились Л. Мартиросова и Н. Филиппов (второй исполнитель роли Кандида), который «чисто и аккуратно справляется с ролью, ловко покоряя вокальные вершины» [10, 8].
Но более всего критик подчеркивал «инженерно сконструированные, высчитанные мизансцены, мало согретые сердцем и улыбкой художника», а также то, что «“язык режиссера” зачастую искусственен, выдуман, не несет в себе удивляющей откровением режиссерской мысли» [10, 8]. Он писал: «В “Кандиде” дар “пересмешника” был крайне необходим, но его как раз и не хватило режиссеру, снарядившемуся на поиски красоты, в погоню за смыслом жизни» [10, 8].
Создается впечатление, что самоцелью было именно создание того, что А. Марета называл «сложнейшим по постановке представлением, в котором органически сочетаются драматургическое действие, современная музыка, элементы оперы и оперетты, модернистская хореография» [11, 3].
Судьба «Кандида» оказалась объективно несчастливой: у Куниганды—Татьяны Бурнакиной «сел» голос, и была назначена новая исполнительница — молодая актриса Людмила Татарова, которую вскоре пригласили на работу в Москву. Спектакль пришлось снять. Он шел два года, выдержав 44 представления. Пожалуй, с него начался явный закат «театра Мархолиа». Его последний спектакль «Молочный фургон здесь больше не останавливается» М. Кондратенко сразу же назвал «неудачей» [12, 3]. Должность главного режиссера была упразднена, с Р. Мархолиа был подписан контракт на постановку в год, и следующей его работой должен был стать «Сон в летнюю ночь», но она не состоялась.
Анализируя причины того, почему век «театра Мархолиа» оказался столь недолгим, нужно искать их, в первую очередь, в самой личности постановщика и особенностях созданных им произведений.
Н. Казьмина писала: «Роман Мархолиа — тонкая нежная душа, акварелист, уловитель случайностей, полета шмеля, взмаха ресниц. <…> Его лучший спектакль “Наш городок” — о том, как надо ценить жизнь. Его театр — о том же: повторение пройденного, воспоминание будущего, возвращение унесенного ветром, чувства, похожие на красивые цветы. Но акварельные краски имеют обыкновение ссыхаться. Загадочная премьерная зыбкость, плавное перетекание формы, многозначность смыслов и подтекстов порой размываются и начинают казаться элементарной актерской небрежностью» [13, 19].
По сравнению с предшествующим «театром Петрова» и появившемся несколько лет спустя «театром Магара» в спектаклях Мархолиа было слишком мало бьющих через край эмоций. Подводит режиссера и замеченное С. Пальчиковским отсутствие чувства юмора. В своей статье критик делает важный вывод: «Театр Мархолиа, при всем богатстве фантазии режиссера, — прохладный театр» [10, 8]. Он не мог затронуть те струны в душах зрителей, что заставляли бы их пересматривать постановки снова и снова.
Еще одна (вероятно, основная) причина недолговечности его спектаклей — отсутствие в них крепкой конструкции, отличавшей спектакли Петрова. Ее отчасти подменяла, но не могла совершенно заменить внешняя красота.
И, наконец, немаловажно то, что сформулировал А. Смольяков: «Это театр созерцания, а не сопереживания» [3, 11].
Спектакли Мархолиа отличала одна выраженная особенность, которая, в конечном итоге, и стала их главным недостатком — их эстетизм, который можно уподобить своего рода «мариводажу». Недаром Р. Мархолиа с удовольствием ставил П. Мариво. Энциклопедическое определение может быть применено и к работам режиссера: «Прежде о каждом, кто писал более манерно, чем сильно, говорили: он впадает в мариводаж» [14, 614]. Мархолиа создавал свои севастопольские спектакли именно «более манерно, чем сильно», используя стилизацию, в том числе, и «под Мариво».
Такова его любовь к метафорам, изысканно-манерным пластике и художественному оформлению, изображению сложных любовных перипетий («нечаянностей любви»), в которых — неизменно одна героиня, преимущественно в исполнении Юлии Нестранской. Талантливая актриса могла быть неповторимой в различающихся режиссерских манерах, но у Р. Мархолиа играла своего рода маску, «типичную героиню Рококо»: «Его [Мариво] Сильвия, Араминта, Анжелика — различные варианты идеализированного образа женщины парижских салонов, сочетающей чувствительность с кокетством, остроумие с несколько искусственной наивностью и жеманной грацией» [15, 793-794].
То, что критики именовали «элитарностью», можно уподобить эстетическому сепаратизму, когда режиссером создавалась красота как самоцель, как собственная культура, призванная резко отличаться от массовой. Но ее оторванность от общего творческого замысла была очевидна. Вероятно, севастопольскому зрителю не были близки изысканная нарочитость, искусственность и холодность «режиссерского языка», несмотря на высокий профессионализм всех создателей спектаклей. Но театр Р.М. Мархолиа, несмотря на вышеперечисленное, занял свое место в истории севастопольского театра, приучив, в первую очередь, актеров к существованию в координатах другой режиссерской манеры.
Библиографический список
- Смольяков А. Сны — такая же реальность, как и все остальное // Правда. 1991. 9 окт. № 236 (26684). С. 3.
- Дмитриевская Е. Вкус лавиджа // Театр. 1991. № 6. С. 52-58.
- Смольяков А. Севастополь — город театральный // Экран и сцена. 1990. 19 июля. № 29. С. 11.
- Оренов В. Переиграть кошку // Слава Севастополя. 1990. 3 июля. № 125 (18336). С. 3.
- Юрздицкая Е. Актриса одного театра // Слава Севастополя. 1996. 13 дек. № 240 (19949). С. 3.
- Кобец Ю. «Любовный напиток» нужно пить залпом! // Невское время. 1996. 20 июня. № 114. С. 4.
- Добротворская К. Петербургский спектакль в эпоху его технической воспроизводимости // Коммерсант. 1996. 13 марта. № 40. С. 13.
- Попов Л. Марш энтузиастов // Вечерний Петербург. 1996. 19 июля. № 163. С. 6.
- Антонова Л. В наилучшем из возможных миров // Слава Севастополя. 1991. 3 дек. № 228 (18689). С. 3.
- Пальчиковский С. Страсти по Мархолиа // Южный курьер. 1992. 11 янв. № 2 (7457). С. 8.
- Марета А. Прощание с «Кандидом»? // Слава Севастополя. 1993. 27 окт. № 210 (19167). С. 3.
- Марета А. Помнить о том, ради чего ежевечерне открывается занавес // Слава Севастополя. 1993. 8 окт. № 198 (19155). С. 3.
- Казьмина Н. Командный заплыв // Театр. 1996. № 3. С. 16-29.
- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона : в 41 т. [(82 полут.)]. С.-Пб. : Типо-Литография Ефрона. Т. 18А (полут. 36). 1896. 958 с.
- Литературная энциклопедия : в 11 т. / редкол. : П.И. Лебедев-Полянский [и др.]. М.: Советская энциклопедия. Т. 6. 1932. 920 с.