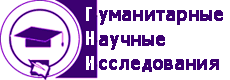В контексте целого ряда гносеологически кризисных ситуаций, переживаемых современной исторической наукой и общим историческим самосознанием современного социума, исследование историософских контекстов русской классической литературы оказывается все более насущной и актуальной проблемой. Там, где истина (в силу обстоятельств как объективных, так и субъективных) остается малодоступной для чисто рационально-логических форм познания, она нередко может быть обнаружена на путях интуитивно-целостного миропостижения, являющегося доминантным в сфере художественного сознания и мышления. Утверждение В.В. Полонского: «В русской литературе рубежа XIX-XX вв. художественная историософия есть не просто философия истории, а прежде всего перевод дискретного ряда философствования об истории на язык универсальных символов-мифологем» [1, с. 137] – может быть отнесено не только к обозначенному здесь периоду, но и к литературно-художественной историософии в целом. Отметим, что обзор аналогично звучащих концепутальных дефиниций историософии представлен в работах И.Л. Бражникова, см.: [2], [3]. Характерно также, что в последние десятилетия историософские контексты литературы все чаще становятся предметом исследования не только с точки зрения проблематики творчества того или иного писателя (см., н-р: [4], [5], [6]), но и с точки зрения поэтики художественного произведения. Данный ряд работ не ограничивается возможностями анализа дискурсивно-явленной, риторически оформленной авторским сознанием философии истории, а обращается к художественно инкарнированным философемам – к историософии, вырастающей из живой реальности рождающегося образа, источником которого становится интуитивно-инстинктивное проникновение в мир через стихии словотворчества. Помимо публикаций уже цитированного выше автора [1], [7], среди подобных работ можно назвать исследования И.Л. Бражникова [2], [3], Т.Н. Бреевой [8], Т.Е. Сорокиной [9], Л.А. Трубиной [10], Г.Л. Черюкиной [11] и др. Автору данной статьи также приходилось обращаться к разработке указанной проблематики [12], и в первую очередь к интерпретации историософских кодов, которые обнаруживаются на уровне ассоциативно-символического, мифопоэтического подтекста, на уровне образно-смысловой парадигматики произведения в целом.
Интерес современного литературоведения к «историософскому подтексту» литературы не случаен. Существует известный парадокс, состоящий в том, что рационально оформленные в сознании писателя как носителя определенного мировоззрения концепции могут значительно отличаться от собственно «художнических» его интуиций, реализованных в процессе «теургии текста» – в процессах образотворчества и смыслопорождения, приобретающих своеобразную самодостаточность и автономность, не обусловленных напрямую рационально выстроенными моделями. Поэтому нередко мы сталкиваемся с тем, что образно-смысловые парадигмы, реализованные в тексте произведения, и изначальные авторские установки могут быть не вполне тождественны. Так, например, личностное сознание И.С. Тургенева как носителя определенного мировоззрения было скорее секуляризованным, нежели религиозно-мистическим или сакрально ориентированным, поэтому и Тургенева-художника долгое время воспринимали как автора, дистанцированного от иррационально-стихийных и интуитивных начал бытия, в том числе и в логике собственного творческого процесса; мир Тургенева казался чужд не только открытой религиозности, но и мифологизированным формам изображения в целом. Не случайно В.Н. Топоров назвал свою книгу, посвященную «таинственным» сферам тургеневского мира, «Странный Тургенев» [13], многие критики и литературоведы безоговорочно причисляли писателя к чисто рационально мыслящим идеологам, «трагическим агностикам» и т.п. «По дурной традиции долгое время считали «самым существенным» в его творчестве именно «идею», – отмечает В.Н. Топоров [13, с. 54]. Однако литературоведение последних десятилетий все более открывает иного Тургенева, для художественного мира которого язык архетипов, мифопоэтические принципы миромоделирования, традиционные духовно-религиозные константы культуры и человеческого сознания не менее значимы, чем для творческого метода Пушкина, Гоголя, Достоевского или Лескова. «Странный Тургенев» обнаруживается не только в его «таинственных повестях», но и в других произведениях, проблематика которых, на первый взгляд, далека от религиозно-мифологических форм миропонимания. Это касается, например, «Записок охотника», в том числе образно-смысловых парадигм национально-исторического мифа, реализованных в художественных структурах цикла (см. об этом подробнее в названной выше нашей работе: [12, с. 173-200].
«Записки охотника» Тургенева весьма репрезентативны в контексте наших рассуждений. Логика воплощения историософского мифа как художественно закодированных на уровне подтекста структур, практически не проявленных в плане открыто заданной текстовой семантики, здесь является доминатным принципом изображения, доведенным до своего художественного предела. Миф здесь существует в диалогически-рефлексийных взаимоотражениях с диаметрально противоположной формой изображения – с очерком или «записками», ориентированными на предельную фактографичность. Тургеневский цикл изначально ориентирует читателя не только на нарративную «документальность», предполагаемую жанровой природой записок, но и на актуализацию в повествовании исключительно современных контекстов российской действительности, без явно выраженных попыток каких-либо историко-философских обобщений, риторически оформленных концептуальных интерпретаций изображаемого. И в самом деле, перед нами убедительно-правдоподобные зарисовки, «слепки» с современной автору русской жизни, где бытие современной России интересует Тургенева именно в его синхроническом, а не диахроническом аспекте. Даже открыто заданные в тексте «Записок» художественно значимые отсылки к контекстам мировой культуры (например, к образам Гамлета и Дон Кихота) имеют прежде всего внетемпоральный образно-типологический смысл, без выраженного диахронного вектора. Вместе с тем анализ ассоциативно-символического подтекста ряда рассказов цикла обнаруживает, что жизнь России на современном этапе ее истории представлена Тургеневым как проекция общих закономерностей метаисторического бытия: этими закономерностями определяется логика судеб индивидуальных, судеб национальных и судеб общечеловеческих. Наиболее репрезентативен в этом отношении, на наш взгляд, рассказ «Бежин луг», его можно назвать одним из ключевых и программных произведений цикла. Концепция исторических путей развития русской жизни получает в «Бежине луге» отчетливое конструктивное выражение через систему мифологем-символов, организующих на уровне внутренней формы произведения его сюжетный строй. Очерковые формы изображения, где автор подчеркнуто и откровенно ориентирует нас на восприятие текста как цикла бытописательных и нравоописательных очерков, и в «Бежине луге», и в «Певцах», и в «Записках охотника» в целом вступают в отношения рефлексийных взаимоотражений с мифопоэтическими принципами миромоделирования, воплощенными на уровне символического подтекста. Миф и реальность живут здесь в диалоге, открывая друг друга как для себя, так и для читателя.
Так, исследование мифопоэтического подтекста рассказа «Певцы» показывает, что на ассоциативно-символическом уровне здесь обнаруживаются художественные коды змееборческого мифа – геральдически-знакового для России, если вспомнить, что фигура Георгия Победоносца, поражающего копьем змия, украшала герб Московского княжества, а затем Российской империи. В «Певцах» художественная историософия Тургенева обращена в первую очередь, к проекциям противоречий исторических и метаисторических процессов в реалии современной писателю российской действительности. Ситуации хаоса и распада, стремящиеся разрушить основы общенационального бытия, открываются сознанию рассказчика в «Певцах» как темпорально локализованные явления: российская жизнь представлена в кризисный момент своего стихийного саморазвития, в момент, когда нарушено равновесие между хаосом и гармонией – как онтологическом плане, так и в духовно-нравственном и социальном.
Творчество Ф.М. Достоевского – еще один характерный пример, подтверждающий возможность дивергенции рационально-идеологических установок автора и его художественно реализованной концепции человека и мира[1]. Как известно, на уровне личностной идеологии аксиологические константы традиционной православной христианской культуры были для писателя безусловно приоритетными; однако, когда мы оказываемся в пространстве художественных миров его произведений, мы убеждаемся, что их ценностные координаты далеко не ограничиваются духовно-религиозными ориентирами, манифестируемыми православной церковью. Мысль Достоевского как художника неизбежно оказывается шире всякой ортодоксии – как в узком, так и широком понимании этого слова, как в плане философской проблематики его произведений, так и в плане их полифонической поэтики. Если Достоевский-публицист тяготел к церковно-христианским моделям миропонимания, то Достоевский-художник в большей мере воплощал в своих произведениях образы и мотивы народной духовно-религиозной культуры с ее ориентацией на живые формы Богообщения и Богоискательства, не укладывающиеся в границы ортодоксальной догматики и канонических текстов; с ее склонностью к «двоеверию», любовью к апокрифам, духовным стихам, легендам и преданиям, не всегда «освященным» официальной церковью. Конечно, и в своих мировоззренческих позициях Ф.М. Достоевский практически нигде не ограничивается жесткими рамками ортодоксально понимаемых учений, но мы сейчас ведем речь об объективно существующих общих тенденциях в сфере личностно-идеологической и в сфере собственно художественного самовыражения писателя, и многие ситуации смысловой дивергенции здесь очевидны. «Несмотря на свои предубеждения, – пишет Р.Г. Назиров, имея в виду идеологические установки писателя, – Достоевский был открыт миру» [15, с. 190]. Так, например, особенно репрезентативны в данной ситуации пути воплощения Достоевским в его произведениях образно-смысловых парадигм софийного мифа: исследования романов «Идиот», «Преступление и наказание» обнаруживают, насколько значимы в интерпретации сюжетно-смысловых структур произведений архетипические модели, связанные не только с библейским образом Софии Премудрости Божьей, но и с историей Софии гностической[2], воспринимаемой в контексте официально-христианской традиции не просто как апокриф, но и как ересь.
Подобную дивергенцию между идеологемой и мифологемой у Достоевского мы обнаруживаем не только в софиологических контекстах его произведений, но и во многих других, в том числе в контекстах историософских, там, где философия истории воплощается как художественно инкарнированный миф, а не риторически оформленная концепция. Несмотря на значительное количество исследований историософии писателя, детальный анализ историософского мифа в художественном мире Достоевского под предлагаемым углом зрения остается перспективой дальнейших литературоведческих изысканий, особенно это касается произведений, не имеющих, на первый взгляд, отчетливо обозначенных историософских отсылок. Одним из таких текстов, обращенных как будто лишь к нравственно-психологической проблематике, является повесть «Кроткая». Полноценная интерпретация этого произведения оказывается невозможной без экспликации его социально-исторических, культурно-исторических, духовно-исторических контекстов, отражающих историософские концепции Достоевского через мифологизированные сюжетно-образные структуры повести. По сути, «Кроткая» демонстрирует, что практически любой текст Достоевского – это историософский текст, поскольку человек Достоевского – это всегда человек, живущий в истории, и драматизм его бытия определяется «роковым», «фатальным» характером этого факта: он не может «исключить» себя из общего неизбежно коллективного процесса «смены времен», движения эпох и связанных с этим противоречий и конфликтов, сколько бы он об этом ни мечтал. Так, герой «Кроткой» страстно, но безуспешно мечтает о романтизированном в его восприятии «бегстве» в Булонь – швейцарский рай, существующий в его сознании вне объективно-реального исторически явленного времени, в некоем абстрактно-прекрасном вечно длящемся настоящем. Не случайно также в «Кроткой» особую художественную акцентуацию получает образ маятника часов как олицетворения неумолимости течения времени – в том числе и исторического времени, – и этот образ для героя в финале становится символом Рока, по сути, в его античном, древне-трагедийном понимании.
Любая личностная социально-психологическая или духовно-нравственная драма (или трагедия) неизбежно проецируется в мире Достоевского на логику развития объективно-исторических процессов. Несмотря на то, что общим местом является утверждение, что герой Достоевского обращен в первую очередь к вопросам и проблемам вечным, на деле всякий вечный вопрос в мире писателя преломлен и через острую злободневность (что отмечалось еще М.М. Бахтиным), и через историческое движение человека и социума от одного момента «злободневности» к другому. Кризисное, контрапунктное пересечение сознаний героев с логикой исторических трансформаций и становится в «Кроткой» источником трагического исхода их судеб. Так, например, «скаредство в экономии», характерное для героя, не является в изображении Достоевского лишь частной, личной чертой его психологии. Как и в «Скупом рыцаре» А.С. Пушкина, «скаредство» героя – это своеобразная призма, через которую преломляются драматические противоречия эпохи. Склонность героя к скрупулезному, педантичному подсчету денег – это склонность человека, внутренние интересы которого далеки от денег и от меркантилизма вообще. В душе он презирает деньги, но вынужден прибегнуть к их силе для того, чтобы «достигнуть цели», отомстить «обществу», оскорбившему его. Чтобы оправдать свою скаредность, он и «напирает на деньги» в разговорах с Кроткой, стремится доказать себе и ей, что желание нажить деньги – не порок, а трезвый взгляд на вещи, «реализм», укоренившийся в моральных нормах современного социума. Отрицать же значение денег – значит, поддаваться «слепоте куриной прекрасных сердец[3]», закрывать глаза розовым флером первых, «дешевых» «впечатлений бытия», забывая о том, что на современном этапе исторического движения цивилизации, когда всюду правят законы «меры и веса», «золотой мешок», говоря словами самого же Достоевского, большинством «общества» поставлен «на пьедестал»: «О, конечно, золотой мешок был и прежде: он всегда существовал в виде прежнего купца-миллионера; но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время. <…> Мешок у страшного большинства несомненно считается теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь фактическое теперешнее преклонение пред мешком у нас не только уже бесспорно, но, по внезапным размерам своим, и беспримерно. Повторю еще: силу мешка понимали все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что есть на земле» [17, с. 436-437]. Отметим, что философема «золотого мешка» развернута Достоевским в октябрьском выпуске «Дневника писателя» 1876 года, сразу же вслед за этим следует ноябрьский номер с «Кроткой».
Скупость, как и жестокость, деспотизм – это роль, которую принимает герой «волею обстоятельств». Она мучительна для него, жизнь его превращается в непрерывное истязание самого себя и Кроткой. Душевные терзания героя еще более обостряются его изначальной романтической установкой, внутренними романтическими притязаниями. В изображении Достоевского, ирония судьбы в том, что герой казнится своей низкой ролью ростовщика, понимая одновременно, что в окружающей его реальности ростовщик и «золотой мешок» почитаются за лучшее, что есть в обществе. Герой – человек своего времени, чутко реагирующий на все его противоречия. Современная действительность – заколдованный круг, из которого нет выхода: разобщенность, индивидуализм и прагматизм в ней господствуют. Это жизнь, лишенная подлинного содержания, оковы условной формы довлеют над ней. Вместе с тем, и сам герой оказывается в собственном «заколдованном круге» самообвинений и самооправданий, тем более мучительных и безысходных, что живут они в нем полуоосознанно.
Таким образом, мы видим, что историософские контексты в повести проявлены не только и не столько прямыми отсылками к реалиям исторического процесса, сколько динамикой исторических изменений самой структуры человеческого сознания, как индивидуального, так и общеколлективного, и динамикой трансформаций отношений личности с миром: индивидуального сознания – с коллективным сознанием современного герою социума, а также и с метаисторической сферой человеческого бытия.
Реальность Достоевского предполагает и футурологический вектор исторического процесса, движение не только от прошлого к настоящему, но и от настоящего к будущему, и одновременно – метаисторический вектор, ориентированный на контексты сакрально и метафизически понимаемой истории, – поэтому любое событие, ситуация, судьба или собственно характер героя, нравственно-психологический или духовный склад личности могут быть объективно поняты и определены лишь в пространстве историософских координат произведения в целом. История («злободневно» текушая), метаистория (как священная, сакральная история) и сферы сакрально-трансцендентного миробытия (как сферы надвременные и внеисторические) контрапунктно пересекаются у Достоевского в каждой индивидуальной человеческой судьбе и в каждом индивидуальном сознании; иногда это пересечение порождает драматические, трагические или мистериальные сюжеты (как в «Кроткой», и вообще в большинстве произведений писателя), а порой оборачивается бурлескно-травестийными сюжетными ситуациями, как. например, в повести «Крокодил».
Авторская рефлексия, проявленная в образно-смысловой системе повести через комические формы изображения, выполняет двояконаправленную роль: деконструкции устоявшихся историко-культурных мифов Европы и России и одновременного нового мифотворчества, дающего возможность более глубокого понимания и объяснения происходящих исторических метаморфоз. Культура, искусство, литература (как и сама история) движутся в непрерывном взаимодействии этих двояконаправленных процессов – мифотворчества и демифологизации; рефлексийно-дистанцированное осмысление их художником (в данном случае в «Крокодиле» – комическое дистанцирование) открывает парадоксальную возможность осознанного мифотворчества, осознанной жизни в мифе, в том числе и национально-историческом: славянофильском, западническом, почвенническом и т.д.
Подобные контекстуальные срезы историософских парадигм творчества писателя в рамках поэтики отдельных конкретных произведений представляются вполне продуктивными и по отношению к другим авторам, в том числе, например, к Н.С. Лескову и Л.Н. Толстому. Следует пояснить, что, говоря здесь о контекстах русской литературы XIX века, мы не имеем в виду хронологические, историко-литературные векторы исследования или сопоставительное, сравнительно-историческое или развернуто-типологическое изучение поэтик разных писателей; мы имеем в виду необходимость изучения инвариантных историософских моделей – концепций, художественно актуализированных в литературе этого периода, но по-разному проявляющих себя в поэтике конкретного писателя и конкретного текста.
Социально-исторические контексты творчества Н.С. Лескова достаточно часто оказываются в поле зрения исследователей, поскольку данная проблематика открыто заявлена автором во многих его произведениях, особенно это касается тем, связанных с ролью нигилизма в русской истории (см., например: [19], [20], [21], [22]). Неоднократно уделялось внимание лескововедами и такому аспекту указанной проблематики, как художественно-философская дихотомия Россия – Запад. Известно, что эта оппозиция приобретает особый семантический акцент и сюжетообразующий смысл в ряде произведений писателя, как например, в знаковом для творчества Лескова рассказе «Левша».
Анализ ассоциативно-символических подтекстов рассказа [12, с. 265-285] обнаруживает ряд принципиально новых историософских концептов, дающих возможность более объективного и диалектичного понимания философии истории писателя, в том числе глубинного видения им путей исторического движения России в парадигме метаисторических процессов. Исследование сюжетных и жанровых структур произведения, экспликация их символических и метафорических функций позволяет реконструировать образно-смысловые контексты национально-исторического мифа, воссозданного в художественной системе «Левши». Представленная здесь историософская концепция Лескова определяется как выражение оригинального взгляда писателя на устойчивые культурологические оппозиции «Россия – Европа», «Восток – Запад». Художественная экспликация писателем устойчивых идеологем и мифологем открывает возможность нового, универсально-философского понимания смысла этих оппозиций. Исторические судьбы России и Европы и связанные с ними противоречия и конфликты объясняются через парадигмы солярно-хтонического мифа и центральной для него общебытийной оппозиции «Хаос – Космос». Драма Левши в изображении Лескова перерастает, таким образом, из социально-психологической и духовно-нравственной в экзистенциальную и метаисторическую, поскольку становится отражением внутренней амбивалентности бытия и его фундаментальных начал.
Подобный же метаисторический уровень приобретает художественная историософия «Войны и мира» Л.Н. Толстого, – там, где речь идет о концепции истории, воплощенной не в программных нарративно-повествовательных структурах произведения, отражающих «отрефлексированные» мировоззренческие позиции писателя, а инкарнированной через систему мифопоэтических образов и мотивов в поэтике романа. В первую очередь здесь значимы архетипические модели, реконструирующие в художественной системе произведения образно-смысловые координаты солярно-хтонического мифа и мифа инициации. Центральными художественными структурами становятся здесь мифологема «войны и мира» и архетип инициации, реализованный и в логике судеб главных героев романа, и в логике общенациональной судьбы. Сюжет инициации, вписанный в парадигму солярно-хтонического мифа, выполняет в «Войне и мире» функции историософского метасюжета, поскольку определяет не только индивидуальные судьбы героев произведения, но и логику общенародного исторического развития. В мифопоэтической знаковой системе романа Отечественная война 1812 г. интерпретируется как общенациональная инициация: с ее этапами испытаний, обретения духовного опыта, финального преображения (см. об этом подробнее: [23])
Еще раз уточним, что в рамках данной статьи мы не ставим задач сколько-нибудь развернутого типологического анализа историософских концепций, отраженных в творчестве названных выше авторов и в литературе XIX века в целом. Подобный подход остается перспективой дальнейших литературоведческих изысканий, здесь же мы пока ограничиваемся постановкой ряда проблем, решение которых даст затем возможность очертить общие контуры и основные концептуально-структурные составляющие мифопоэтической историософии русской литературы XIX века. Разумеется, более полная реконструкция данной художественно-философской парадигмы предполагает и более широкий круг имен, и более детальный анализ творчества каждого отдельного писателя, и, главное, обстоятельно разработанную типологию. Данная работа имеет предварительно-эскизный характер, и одна из ее целей – определение некоторых характерных образно-смысловых и сюжетообразующих моделей, значимых в рамках исследуемой парадигматики. Мы можем сказать, что историософский миф в контекстах русской литературы XIX века находит выражение не только в своих непосредственных социально-исторических и культурно-исторических проекциях, но и в метаисторических – через ряд своих инвариантных форм. Среди наиболее существенных инвариантов здесь следует назвать образотворческие и смыслопорождающие модели солярно-хтонического мифа, змееборческого мифа, эсхатологического мифа, мифа инициации. Диалектически связан с ними и ряд других мифологизированных сюжетов, таких, как сюжет грехопадения, сюжеты сотерического и софиологического мифов. Перечисленные мифологемные инварианты актуализированы в творчестве практически всех «знаковых» авторов рассматриваемого периода (и названных здесь, и не упомянутых), но с разной степенью функциональной значимости, в разных диалогически-рефлексийных отношениях и смысловых пересечениях. Можно сказать, что диалогические взаимоотражения инвариантных модусов историософского мифа генерируют один из основных метасюжетов русской литературы XIX-XX веков. Здесь мы эскизно обозначили лишь основные образно-смысловые векторы и художественные координаты историософского метасюжета, обстоятельный системный анализ данной парадигматики во всех ее внутренних взаимосвязях и на более широком материале, остается, как мы уже говорили выше, следующим шагом в перспективе научных исследований.
В таком же перспективном исследовательском векторе можно обозначить еще один комплекс проблем, связанных с интерпретацией историософских парадигм русской классической литературы, – это проблемы жанровой концептуализации «смысла истории». На наш взгляд, ключевое значение здесь не только для русской литературы, но и для европейского культурного сознания в целом приобретает образно-смысловая триада миф – трагедия – мистерия. Мы имеем в виду, что каждая из этих жанровых форм (в том числе и миф как своеобразная протожанровая миромоделирующая форма) наделена собственной концептуализирующей историю парадигматикой; поэтому там, где мы встречаемся с одной из этих форм (либо с их диадой или триадой), как правило, обнаружим и возможность определенной интерпретации истории. История может быть интерпретирована не только с точки зрения логики мифа, но может быть трагедизирована или мистериально драматизирована в контекстах авторского сознания. Разумеется, здесь не идет речь о драме, трагедии и мистерии только как о конкретных жанровых формах, в которых создано произведение исторической тематики, как, например, «Борис Годунов» А.С. Пушкина или «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого; речь идет прежде всего о внутренней жанровой форме произведения, о жанровых архетипах или, по М.М. Бахтину, «памяти жанра», реализованной чаще всего через ассоциативно-символический подтекст. В этом смысле, например, трагедийна концепция истории в «Медном всаднике» А.С. Пушкина, мистериальны историософские модели, воплощенные в пьесах А.Н. Островского, романах И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, в произведениях Н.С. Лескова. Не случайно в этом перечислении мистериальный контекст является преобладающим, поскольку мистерия как миромоделирующая форма сама по себе глубоко историософична.
Это связано прежде всего с тем, что мистериальный универсум наделен как пространственной, так и временной многомерностью. Поэтика мистерии позволяет воспринимать как особую смысловую систему координат: 1) время индивидуальной, личной судьбы персонажа; 2) социально-историческое время, с которым соотнесено время индивидуальное; 3) сакрально-историческое, или метаисторическое, время – время «священной истории» человечества, логикой которой определяются закономерности и индивидуальной, и общечеловеческой судьбы; 4) метафизический, трансцендентный план бытия, где «времени больше не будет», а есть Вечность как особая бытийная сфера, принципиально отличающаяся от временных планов: вечность означает не бесконечность времени, а отсутствие времени вообще. Смысл индивидуальной человеческой судьбы, а также и судеб стран и народов, человечества в целом проецируется в мистерии в каждый из этих временных планов, обретая при этом возможность бытийного самоопределения.
Поэтому мистериально организованный хронотоп мы обнаруживаем во многих художественных мирах, когда речь идет о произведениях с актуализированной историософской проблематикой – и в русской литературе XIX, и XX века. Однако, как правило, образно-смысловые парадигмы мистерии на уровне жанровой внутренней формы произведения вступают в рефлексийно-диалогические взаимоотражения с другими жанровыми эйдосами, в первую очередь – эйдосами мифа и трагедии, порождая устойчивую в рамках европейской культуры художественно-смысловую триаду. Эта концептуально значимая жанровая триада является базовой, например, для художественного мира Достоевского, где индивидуальная человеческая судьба может определяться логикой и мифа, и трагедии, и мистерии (репрезентативна в этом плане «триада» братьев Карамазовых: судьба Ивана трагична, Алексея – мистериальна, Дмитрий стремится реализовать провиденциально понимаемый миф своей судьбы). Логика же общенародной или общечеловеческой судьбы (т.е. истории и метаистории) у Достоевского имеет прежде всего мистериальный характер. В контекстах русской литературы XX века жанровая триада миф – трагедия – мистерия является значимой, например, для историософских экспликаций в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака, а в литературе второй половины прошлого столетия – в творчестве В.П. Астафьева.
Мы не можем сейчас заняться развернутым анализом художественных функций данной жанрово-смысловой триады, так же, как и типологией мифологизированных историософских парадигм русской литературы, оставляя это перспективой будущих исследований. Отметим лишь в заключение, что внутренние диалогические отношения в самой триаде тоже имеют историософский вектор, поскольку каждый из ее элементов имеет стадиально-исторический характер в контекстах становления культуры. Если в мифе человек и мир, человек и Творец-Бог (боги), человек и природа живут чувством своей внутренней целостности и единства, то постмифологическое сознание[4] ставит, говоря словами В.А. Зарецкого, вопрос «о расколотости прежней теоцентрической системы мировоприятия (центр – Бог) на несколько сфер: Человек и Космос, Вселенная; Человек и Культура; Человек и Цивилизация; Человек и Бог», а также, можно продолжить, – Человек и История, Человек и Метаистория. Литература, культура, история «ведут исключительный духовный поиск путей преодоления разорванности мира, его расчлененности на множество микромиров». Каждый участник этого процесса «в зависимости от степени дарования предлагает тот или иной способ преодоления обрыва между миром людей и миром Божьим»[5], между историей социальной и историей сакральной. Продолжая мысль В.А. Зарецкого, можно сказать, что в результате вместо единой целостной картины мироздания и его истории, воссоздаваемой мифом, возникают множественные модели реальности, воплощаемые в разных жанровых мирообразах, в том числе и модели историософские. Однако человеческое сознание и культура не могут существовать и развиваться в состоянии «вторичного хаоса» – т.е., абсолютно расколотой, дробной картины Универсума. Культура, и литература в том числе, ищут путей восстановления утраченного единства, поэтому многообразные жанровые модели исторической реальности живут в отношениях взаимоосознания и диалога – с помощью рефлексийных взаимоотражений, порождающих образ внутреннего единства в многообразии. Существенно при этом, что в отношения взаимоотражений вступают жанровые эйдосы (в том числе трагедии и мистерии) и друг с другом, и с мифом, не разрушая, а осознавая его, а вместе с этим осознавая и свои собственные пределы и возможности. Поскольку рефлексийные отношения становятся принципом существования жанровых систем не только в синхронии, но и в диахронии, возникающая в этих процессах универсальная картина мира и его исторического развития обретает динамичный, становящийся характер. Логика этого становления в литературе и искусстве проявляет себя в процессах мифологизации и демифологизации образа человека и мира, а также и образа истории, ее художественно оформленной концепции. Внутренний же смысл этой двунаправленной жизни художественного сознания – в возвращении к мифологической полноте и целостности мироощущения, но уже на ином, самоосознающем уровне восприятия бытия.
[1] Здесь можно вспомнить не только Тургенева или Достоевского: подобную же диалектику соотношения рациональных и иррационально-интуитивных начал в парадигме текстопорождения мы обнаруживаем и у других художников слова, в том числе и достаточно дистанцированных в культурном сознании от обоих писателей. Репрезентативно, например, в этом отношении замечание И.В. Кудровой о внутренней логике творческого процесса М. Цветаевой: «…всякий раз, когда М. Цветаева прибегает к выражению «это больше, чем искусство», она хочет сказать о силах, прорывающихся в творческий процесс помимо воли художника» [14, с. 209] (курсивы здесь и далее принадлежат автору данной книги, жирный шрифт – авторам цитируемых текстов).
Библиографический список
- Полонский В.В. Между традицией и модернизмом. Русская литература рубежа XIX-XX веков: история, поэтика, контекст. М.: ИМЛИ РАН, 2011. – 472 с.
- Бражников И.Л. Эсхатологическое измерение историософского текста / Правая.ru. 27 сентября 2010 г. // URL:http://pravaya.ru/look/19929 / Дата обращения 27.10.2017
- Бражников И.Л. Русская литература XIX-XX веков. Историософский текст. Монография. М.: Прометей. МПГУ, 2011. – 240 с.
- Емельяненко В.Д., Садовая Л.В. Этический характер историософии А.К. Толстого // Альманах современной науки и образования. № 8 (98). Тамбов: Грамота, 2015. – C. 60-63.
- Мельников Е.С. Историософские мотивы в творчестве М.А. Волошина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2017. Т. 22. № 2. – С. 228-236.
- Сорочан А.Ю. Формы репрезентации истории в русской прозе Х1Х века: автореф. дисс. …д. филол. н. Тверь, 2008. – 39 с.
- Полонский В.В. Между традицией и модернизмом. Русская литература рубежа XIX-XX веков: история, поэтика, контекст. М.: ИМЛИ РАН, 2011. – 472 с.
- Бреева Т.Н. Концептуализация национального в русском историософском романе ситуации рубежности: автореф. дисс. …д. филол. н. Екатеринбург, 2011. – 36 с.
- Сорокина Т.Е. Современный русский роман как явление историософской идеи // Культурная жизнь Юга России. – № 1(39). – 2011. – С. 66-68.
- Трубина Л.А. Историческое сознание в русской литературе первой трети XX века: Типология. Поэтика: автореф. дисс. …д. филол. н. М., 1999. – 40 с.
- Черюкина Г.Л. Романы «пятикнижия» Ф.М. Достоевского и Откровение святого Иоанна Богослова: автореф. дисс. …к. филол. н. Ростов-на-Дону, 2001. – 24 с.
- Ибатуллина Г.М. Художественная рефлексия в поэтике русской литературы XIX-XX веков: дисс. …д. филол. н. Ижевск, 2015. – 564 с.
- Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 1998. – 192 с.
- Кудрова И.В. Загадка злодеяния и чистого сердца // Марина Цветаева. Статьи и тексты. Wiener slawistischer almanach. Sonderband 32 / ред. Л.А. Мнухин. Wien: Verlag Otto Sagner München – Berlin – Washington D.C., 1992. – С. 201-217.
- Назиров Р.Г. Специфика художественного мифотворчества Ф. М. Достоевского: сравнительно-исторический подход // Назиров Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сборник статей. Уфа: РИО БашГУ, 2005. – С. 189-198.
- Касаткина Т.А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М.: ИМЛИ РАН, 2004. – 480 с.
- Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 год. Октябрь // Достоевский Ф.М. Дневник писателя / Сост., коммент. А.В. Белова / Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. – С. 429-442.
- Достоевский Ф.М. Кроткая // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / редкол.: В.Г. Базанов (гл. ред.) и др. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. – Т. 24: Дневник писателя за 1876 год, нояб.-дек. / текст подгот. и примеч. сост. В.Е. Ветловская и др.; ред. Е.И. Кийко, Г.М. Фридлендер. – 518 с. – С. 5-35.
- Баранова Н.С. Художественное воплощение исторических реалий первой половины XIX века в творчестве Н.С. Лескова: дисс. … к. филол. н. Киров, 2012. – 186 с.
- Куранда Е.Л. Повествовательная структура романа Н.С. Лескова «Некуда» в системе русского антинигилистического романа 1860-1870-х годов: дисс. … к. филол. н. Псков, 2001. – 243с.
- Старыгина Н.Н. Роман Н.С. Лескова «На ножах»: человек и его ценностный мир. М.: Прометей, 1995. – 114 с.
- Шелковникова Л.Ф. Социально-философские воззрения Н.С. Лескова: дисс. … к. филос. н. М., 2000. – 166 с.
- Ибатуллина Г.М., Булина Е.В. Архетипические модели и их смыслопорождающие функции в поэтике романа Л.Н. Толстого «Война и мир» // Вестник Удмуртского универ-та. 2014. № 5-4. – С. 7-16.
- Ибатуллина Г.М. В.А. Зарецкий: эскиз типологической модели развития русской литературы 19 в. // «Любить дело в себе…»: книга Памяти профессора Валентина Айзиковича Зарецкого: воспоминания, материалы личного архива, статьи / ред.-сост. А.С. Акбашева. Стерлитамак: Изд-во СФ БГУ, 2013. – С. 317-323.