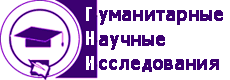Взгляд на комические новеллы М. Зощенко как на произведения быто- и нравоописательного характера уже изжит современным литературоведением; ни у кого не вызывает сомнений, что существуют более глубокие возможности осмысления художественных миров, созданных писателем. В наших предыдущих работах [1], [2] мы попытались определить и описать базовые, на наш взгляд, для поэтики Зощенко принципы образотворчества и смыслопорождения – принципы карнавализации и театрализации образа мира и человека. Цель предлагаемой статьи – в развитии и углублении данной исследовательской парадигмы, однако, здесь мы в большей мере сосредоточимся на поэтике театрализации.
Выделяя для теоретического анализа ряд комических рассказов Зощенко, мы ориентируемся на возможность их условного объединения с точки зрения воплощенной в них системы художественных мотивов. Общий смыслопорождающий контекст в выбранных новеллах создается мотивами театра, сцены, актерства, игры, значимость которых уже оговаривалась исследователями. Так, по словам А. Жолковского, «в зощенковской «энциклопедии некультурности» тема такого культурного явления, как театр (и, реже, кино, концерт, цирк), возникает довольно часто» [3, с. 124].
В контексте наших рассуждений следует учесть, что изображаемые в произведении события не обязательно происходят в пространстве театра или иных зрелищно-игровых локусов культуры. К примеру, в рассказе «Баня» нет изображения театра как такового, в повествовании возникают лишь косвенно-аллюзийные его образы: «Не в театре, говорит», «публика разойдется». Однако эти аллюзии возникают не случайно, они играют особую знаковую роль в художественном мире произведения, поскольку основной структурной единицей движения сюжета здесь становится бытовая сценка, которая с развитием авторского взгляда на события превращается в зрелищно-игровую, театрализуется. В результате в рассказах Зощенко наряду с узнаваемыми образами реально-исторического и реально-бытового мира создается образ сценического пространства, сценического действа, мир зрелищно-игровой, театрализованный. Герой в художественной системе рассказов, соответственно, может быть адекватно понят лишь в данном многомерном контексте.
Какова диалектика взаимоотношений изображаемых писателем сфер? Реально-исторический и бытовой мир составляют единый образно-смысловой универсум – это эмпирическая историческая действительность, послереволюционный социум, в который погружены персонажи М. Зощенко. Однако по логике художественной мысли писателя обнаруживается, что то, что происходит с героем в конкретно-исторической реальности («малом круге» времени, по М. Бахтину), может быть осмыслено и понято лишь в круге «большого» времени истории и культуры, которое в полной мере открыто сознанию автора, в сознании же персонажей отражается осколочно. Можно сказать, что те два круга времени, в которых, по словам М.М. Бахтина [4, с. 536] живет любое произведение искусства, становятся в системе Зощенко объектами художественного изображения и осмысления. Герой Зощенко репрезентирован писателем как существующий в этих двух параллельных пространственно-временных планах и роль посредника, медиатора между ними играет хронотоп сцены.
Сцена (или, вернее, образ сцены) в мире Зощенко – это те подмостки, тот пьедестал, встав на который «маленький человек» – традиционный герой русской литературы – вглядывается, осваивается, входит в общение с большим кругом бытия. Вместе с тем, локус сцены – это и те подмостки, на которых герой испытывается в своих способностях и своих внутренних, пусть даже пока неосуществленных возможностях, быть причастным к универсальным бытийным сферам. И надо отдать ему должное: как это ни покажется странным, чаще всего он выдерживает это испытание, правда, порой неожиданным для читателя образом. За личиной обывателя Зощенко почти всегда обнаруживает лик (или черты лика) Человека, хотя и сильно «помятый», деформированный обстоятельствами его существования в малом круге жизни. Таковы, например, герои «Аристократки», «Операции», «Стакана», «Медика», «Качества продукции» и других рассказов.
Статус театральной сцены в мире Зощенко могут обрести и коммунальная квартира, и трамвай, и уличная площадь, и баня, и клозет, и морг и т.д. Если же события разворачиваются в помещении театра, как в рассказе «Прелести культуры», например, то возникает своеобразный эффект театра в театре, где герой становится главным действующим лицом представления, им самим же поставленного. В чем смысл подобной сценизации жизненного пространства у Зощенко? Прежде всего в том, что это открывает возможность дистанцированного, следовательно, повышенно-рефлексийного, осознанно-остраненного взгляда на привычные жизненные реалии; во-вторых, это позволяет видеть Жизнь как целое – целое, обладающее внутренним единством и собственной логикой, несмотря на весь алогизм внешне выраженных ситуаций; в-третьих, взгляд на Жизнь со стороны, как на сцену, открывает ее не только как целое, но как становящееся целое (курсивы здесь и далее принадлежат автору данной статьи): ведь действо, происходящее на сцене, – это всегда действие – нечто меняющееся, динамичное, движущееся к определенному смысловому финалу; таким образом, сознание отчетливее обнаруживает, что сценоподобное, в многообразных, в том числе и комических, и порой внешне нелепых, формах совершающееся самодвижение жизни не бессмысленно, но имеет собственную, хотя порой и трудноуловимую цель. Подобный мирообраз – Жизни как становящегося многомерного единства – приобретает мистериальный характер, поскольку любой человеческий индивид, будь он актер или зритель в этом театре жизни, оказывается причастным и к этому становлению, и к его внутреннему смыслу и цели, несмотря на всю свою «малость»[1]: даже «маленький» актер имеет свою роль на сцене, без которой спектакль может не состояться (среди зрителей также нивелируются формальные иерархические критерии: не случайно, галерка традиционно была активнее партера, а слезы или смех в зрительном зале уравнивают всех). Имеющие явно карнавализованный характер сюжетные сцены зощенковских рассказов оказываются парадоксальным образом вписаны в общий мистериальный поток жизни. Впрочем, парадоксальность здесь лишь кажущаяся, так как в истории европейской культуры карнавал и мистерия всегда существовали в амбивалентном единстве и образно-смысловой комплементарности.
В одной из названных выше наших работ [2] мы уже частично исследовали ряд параметров и признаков, в соответствии с которыми образы реально-бытового пространства в мире Зощенко приобретают статус театральной сцены (театральной – в самом широком смысле слова, включающем в себя представление о самых разных сценических жанрах: не только театра в классическом понимании, но и балагана, цирка, карнавальной площади и т.п.). Анализ поэтики рассказов писателя позволил выделить следующие критерии сопряжения бытового и сценического хронотопов в художественной системе Зощенко: локальность (= интерьерность) бытового и сценического пространства-времени, их о-формленность, о-граниченность, или «завершенность» в терминологии М. Бахтина; дискретность, маркированность пространства-времени; его атрибутивная оформленность и наполненность, опредмеченность (и бытовой, и сценический топос необходимым образом существуют как пространство вещей). Семиотичность сценического пространства (каждый предмет равен образу-знаку) и антисемиотичность пространства бытового (каждый предмет имеет прежде всего чисто утилитарный функциональный смысл) тоже дают возможность взаимопроекции и взаимоотражения этих хронотопов, но уже не по признакам сходства, а по противоположности.
В данной статье мы продолжим анализ тех особенностей художественного пространства-времени в зощенковской модели мира, благодаря которым реальность эмпирическая локализуется в театрально-сценическую, приобретая совершенно определенные, эстетически особым образом очерченные границы и формы.
Значимым критерием сопряжения двух миров по логике антитезы становится в поэтике рассказов Зощенко способность / неспособность сценического и бытового пространства «искривляться»: сужаться и расширяться, преобразовываться и трансформироваться. Даже на небольшой сцене можно создать убедительное для зрителя воплощение масштабных образов-хронотопов: огромного замка, цветущего сада, многолюдного празднества и так далее. Топос сцены способен расширяться до макрообразов и наоборот – высветить лишь единичный предмет, персонаж, локализуя вокруг них действие. Сама природа сценического пространства предполагает необходимость метаморфоз и преображений, «смены декораций», то есть сценический хронотоп принципиально изменчив. Бытовое пространство, напротив, предполагает состояние мира устойчивое, наполненное неизменными, постоянными смыслами и значениями. Более того, эта стабильность бытового хронотопа угрожает перерасти в статичную ограниченность, а в пределе – в косную неподвижность, отраженную в метафоре «домостроя». У Зощенко же бытовое и сценическое пространства взаимотрансформируются, бытовое часто начинает играть роль сценического, что порождает яркий комический эффект. К примеру, в рассказе «Кризис» ванна расширяется до размеров будуара и столовой: «А в крайнем, говорит, случае, перегородить можно. Тут, говорит, к примеру, будуар, а тут столовая» [6, т. 2, c. 178]. Устойчивый топос Дома превращается героиней в пространство игровых метаморфоз, подобно тому, как это происходит в детских играх («я – мама, ты – папа, здесь – зал, там – кухня» и т. д.). Дом и его обитатели начинают существовать не столько в своей изначальной форме и функциях, сколько в условных ролях и масках, которые, в отличие от детских игр, не замещают реальное пространство Дома, а подменяют его. Однако эту подмену замечает автор, но не герои, так как сознание персонажей Зощенко действительно остается во многом по-детски наивным, и в этом, с точки зрения писателя, залог остающейся в них искренней человечности. Надевает маску наивности и рассказчик, исполняющий роль своеобразного медиатора между автором и персонажем: «Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь … Ну а пока что трудновато насчет квадратной площади» [6, т. 2, c. 179]. Здесь в амбивалентно-ролевом единстве интегрируются и авторская ирония, и детски-простодушная мечта персонажа, в которой отражена извечная тяга человека к обустройству пространства своего существования, структурированию и оформлению его в топос Дома.
Взаимометаморфозы бытового и сценического хронотопов обнаруживаются и в другом рассказе – «Нервные люди». Большая коммунальная квартира сужается здесь до размеров кухни, поскольку именно кухня становится реальным пространством общения и взаимодействия персонажей: «А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус» [6, т. 2, c. 186], – и далее все жильцы собираются в этом микролокусе, сценически подменяющим макролокус Дома, здесь же разворачивается и «замечательное» событие этого вечера, приобретающее трагифарсовый характер.
Коммунальная квартира в мире Зощенко имеет своим архетипом образ Дома, но этот архетип, согласно логике изображаемых писателем событий, никогда не может воплотиться в полной мере. Архетипически Дом – простанство индивидуально-личного или семейно-родового бытия человека, поэтому выражение «коммунальная квартира (= дом)», ориентированное на чисто социобытовые связи и отношения, возможно лишь как оксюморон, порождающий в мире Зощенко сюрреалистические и гротесковые обертоны. Отсюда амбивалентность трагикомических ситуаций рассказа «Нервные люди»; кухня здесь подменяет весь космос Дома (равнозначный космосу жизни) и сосредотачивает в себе псевдомикрокосм существования персонажей, становясь, по сути, репрезентантом экзистенциального хаоса, царящего в окружающей их реально-исторической действительности. Персонажи, участвующие в кухонной драке, оказываются не только и не столько виновниками своего обедненного способа существования, но и жертвами этого своеобразного коллапсирования пространства: Космос → Дом → Кухня, – и комического, и драматического одновременно. Герой Зощенко не только осмеян и обвинен в примитивной редуцированности своего бытия, но и реабилитирован тем, что он в значительной мере жертва окружающего его экзистенциального хаоса, фарсовых подмен истинного Дома его оксюморонно-ролевым подобием. Однако именно «ролевой», то есть «театроморфный» характер ситуации является по логике зощенковского изображения и залогом ее изживания-преодоления: сценическая маска или роль – это нечто временное, то, от чего можно освободиться, изменив сценарий и выбрав иную роль, поэтому потенциально в каждом персонаже Зощенко открывает возможность преображения, перемены «личины» на истинно человеческий «лик».
Остановимся на еще одном значимом критерии сопряжения бытового и и сценического пространства в художественном мире Зощенко. Оба топоса существуют постольку, поскольку в них происходят какие-либо события, совершаются какие-либо действия, причем на сцене – это действия игровые, творческие, условные, в быту – жизненно необходимые, функционально-прагматические. Отсюда, как обязательное условие существования этих топосов, – присутствие здесь человека, производящего действия, участвующего в событиях и т.д., то есть антропоцентричность обеих пространственных сфер. Неслучайно, опустевщий дом воспринимается как разрушающийся дом (вспомним, например, характерный в этом плане финал «Вишневого сада»). Конечно, можно возразить, что театр может быть и пустым, без актеров и зрителей, но в этом случае речь будет идти не о театре, а о помещении театра; театр же как таковой может существовать и без помещения, главное условие оформления пустого пространства в сценическое – актеры и зрители, а не стены. Вероятно, именно сценический характер хронотопа в рассказах Зощенко объясняет периферийность или полную редуцированность в них природных образов: природное пространство не антропоцентрично, оно не предполагает обязательное присутствие человека; если человек и явлен здесь как созерцатель или деятель, бытие природы все же объективно независимо от бытия человеческого. В то же время, как нельзя представить сцену без актеров, так и рассказы Зощенко нельзя представить без центральной организующей в них роли человека.
По принципу антитезы вступают также в диалогические взаимоотражения и взаимометаморфозы бытовое и сценическое пространство по отношению к феномену игры, что также становится одним из источников создания карнавально-комической образности. Игра является изначальной сутью сценического действа, в то время как быт по своей функциональной природе не предполагает игры. Однако часто в изображении Зощенко поступки и действия его персонажей осознанно или бессознательно приобретают игровой характер. Герои рассказов «Стакан», «Обезьяний язык», «Нервные люди» и др. нередко в самых тривиальных «обытовленных» ситуациях встают в напыщенные позы, прибегают к театральным жестам, выразительной мимике; произносимые ими фразы звучат, как реплики со сцены, речи наполнены пафосом, подобно сценическим монологам героев пьесы. Характерный пример – тирада героини рассказа «Стакан»: «У меня, говорит, привычки такой нету – швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, говорит, Иван Антонович в гробе, наверно, повертывается от этих тяжелых слов … Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас так после этого» [6, т. 2, c. 127]. Бытовое поведение здесь моделирует поведение сценическое, хотя и неосознанно для самой героини, однако в системе авторского сознания театрализовано-патетический оттенок монолога очевиден. Игра укоренена в самой природе человека, но не в природе быта, поэтому, привнося в быт игру, человек тем самым остраняет его и открывает свое несовпадение с ним. Именно подобное неравенство своей бытовой личине обнаруживается в героях Зощенко: несмотря на их видимый внешний «примитивизм», каждый из них в какой-то мере оказывается «лицедеем», то есть существом творческим. Еще одним примером подобной ситуации неосознанно-ролевого поведения персонажей может служить рассказ «Обезьяний язык»: «Оратор простер руку вперед и начал речь. И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами» [7]. Совершенно очевидно, что играет не только сам оратор, с пафосом произносящий речь с трибуны, ему подыгрывают и слушатели, в результате вся ситуация «пленарного заседания», на котором рассказчик оказался не столько в роли участника, сколько зрителя-слушателя, приобретает театрализовано-игровой характер.
Игра как реальная или «внутренняя неосуществленная возможность» (В. Зарецкий) живет практически в каждом герое Зощенко. Играют не только персонажи, но и сам автор, меняющий маски персонажей-рассказчиков и выполняющий триединые функции актера в маске рассказчика, наблюдателя-зрителя, вместе с читателем следящего за происходящим и режиссера –создателя этого мира. Маски автора – это окружающие писателя люди, которых он встречал на базарных площадях, в трамваях, пивных, в театре … За голосами персонажей, за голосом «подставного» рассказчика слышится голос самого автора, никогда не забывающего о маскарадности, «ряжености» происходящего. Постоянным напоминанием об этом становится в текстах Зощенко особый вид «субъективной иронии», при которой «все должно быть шуткой и все должно быть всерьез, все простодушно-откровенным и все глубоко притворным» (Ф. Шлегель: цит. по кн.: [8, с. 305]).
Говоря о критериях взаимодействия и взаимопроникновения театрального и бытового топосов в мире Зощенко по логике антитезы, коротко обозначим еще один: «аудиторность» повествования и действия. Сцена предполагает адресацию к аудитории и, соответственно, диалогизм художественного мышления и изображения, быт же по своей природе монологичен. В рассказах Зощенко с их подчеркнуто «обытовленными» контекстами повествовательная форма так же подчеркнуто аудиторна и диалогична: «Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли …» («Кризис» [6, т. 2, с. 178]); «Так вот, этого, товарищи крестьяне … Строят еропланы и летают после …» («Агитатор» [6, т. 1, с. 434]); «Дак вот я и говорю, детишки-ребятишки, …» («Нянькина сказка» [6, т. 1, с. 661]), – и так далее, примеры можно найти практически в каждом тексте писателя.
С поэтикой театрализации связана и такая известная особенность зощенковского нарратива, как стилизация. «Ряженое», стилизованное, пародийное слово Зощенко внутренне «театрально» и, видимо, не менее диалогично, чем слово Достоевского, однако детальный анализ сценической природы слова в произведениях Зощенко остается пока для нас перспективой дальнейших исследований.
Здесь же в заключение еще раз кратко определим, каковы образотворческие и смыслопорождающие функции поэтики театрализации в мире Зощенко. Основная эстетическая цель Зощенко-писателя – не сатирическое осмеяние, а художественная реабилитация человека, даже такого малокультурного, необразованного, ограниченного, как обыватель советской эпохи 20-30-х годов XX века, когда «кухарки» вдруг стали «править государством». Изображая своих персонажей как актерствующих, Зощенко тем самым обнаруживает в них несовпадение личностной сути и исполняемой роли – социальной, профессиональной, жизненной, бытовой, – роли, превращающейся под пером писателя в подобие сценической маски.
Герои Зощенко пытаются употреблять слова, значений которых они не знают, говорят на «обезьяньем языке», ведут себя алогично и абсурдно с точки зрения существующих «стандартов» поведения, однако это не просто следствие их недомыслия или неполноценности, а, в изображении Зощенко, «знаковые жесты», отражающие их внутреннюю тягу к чему-то большему, чем то, что они способны реализовать в данный момент, это знаки их потенциальной внутренней неограниченности, неисчерпанности своей ролью. «Аристократка» хочет бывать в театре («Сводили бы меня, например, в театр» [6, т. 1, с. 473]), и в самом по себе этом желании нет ничего «примитивного», ведь она не предлагает сводить ее в ресторан или в кабаре. Герой «Бани» демонстрирует трезвый, полный здравого смысла взгляд на алогичные ситуации современного ему быта; герой рассказа «Суета сует» по-своему философствует, рассуждая на «вечные» темы; инвалид Гаврилыч в рассказе «Нервные люди» ввязывается в кухонную драку, стараясь казаться и другим, и самому себе не калекой, а «нормальным» человеком. Герой Зощенко, как правило, понимает, что его образ жизни аномален, далек и от нормы, и от идеала, он даже знает, как должно быть: «Пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни» («Качество продукции» [6, т. 2, с. 301]). В рассказе «Кризис» героиня, устраивающая в ванной будуар, казалось бы, мыслит абсурдно, но в тоже время этот абсурд – лишь отражение абсурдности самой окружающей ее реальности и знак неудовлетворенности этой реальностью, знак внутренней потребности в иных ценностях, нежели те, которые предлагает ей жизнь. «Историческая необразованность» героев Зощенко, внезапно попавших из одной социальной эпохи в другую, и порождает, и одновременно оправдывает их нелепость. Их проблема в том, что, оказавшись в «перевернутой» эпохе, они не могут полноценно «попасть в роль», для них во многом чуждую и непривычную. И в этой ситуации герои Зощенко не более ущербны, чем любой человек, оказавшийся в матрицах чужих ролей, навязанных внешним миром, а сам Зощенко не менее гуманист, и не более сатирик, чем Гоголь или Чехов.
[1] Ср. с одним из определений мистериальной картины мира, принадлежащим Э. Ауэрбаху: здесь «…всякое событие, взятое в своей повседневной действительности, одновременно оказывается звеном всемирно-исторической цепи, где все звенья сопряжены одно с другим и потому должны быть поняты как ежечасные, каждовреʹменные, или как сверхвременныʹе» [5, с. 166].
Библиографический список
- Ибатуллина Г.М. Жанровый архетип мениппеи в поэтике комической новеллы М. Зощенко // Вестн. Удмурт. ун-та. Сер. История и филология. 2010. Вып. 4. С. 34-45.
- Ибатуллина Г.М. Театрализация хронотопа в поэтике комических рассказов М. Зощенко // Проблемы образотворчества и смыслопорождения в словесном искусстве: сб. ст. к 80-летию проф. В.А. Зарецкого / под общ. ред. И.Е. Карпухина. Стерлитамак: Изд-во СГПА, 2008. С. 202-213.
- Жолковский А.К. Зеркало и зазеркалье: Лев Толстой и Михаил Зощенко // Жолковский А.К. Блуждающие сны. М.: Наука. Восточная литература, 1994. 428 с.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 543 с.
- Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976. 556 с.
- Зощенко М.М. Собрание сочинений в 7 т. / сост. и прим. И.Н. Сухих. М.: Время, 2008.
- Зощенко М.М. Обезьяний язык // Михаил Зощенко. Рассказы и фельетоны / URL: http://zohenko.ru/archives/327 / дата обращения 25.12.2017
- Антонов С.П. От первого лица: Рассказы о писателях, книгах и словах. М.: Советский писатель, 1973. 368 с.