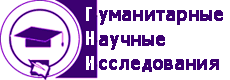Для понимания игрового метода в творчестве русскоязычного и американского писателя В.Набокова необходимо учитывать его драматургический опыт. Несмотря на заявления В.Набокова о равнодушии к театру, именно его театральная концепция, а также драматические опыты предопределили игровой метод и эстетическое мировоззрение писателя. В европейской культурной жизни XX века театр приобретает роль катализатора для пробуждения новых творческих сил, подавленных событиями социальных революций, первой мировой войны и нагнетаемой обстановкой зарождающегося фашизма. Обладающие логикой театрального мышления драматурги и теоретики как русского, так и европейского искусства, ставили театр в центр эстетического мировоззрения и объясняли мир, используя принцип сценической игры.
В современных научных концепциях творчество Набокова определяется как «театр личной тайны» (Г.Хасин) [1], что не случайно, ведь действительно, выразить свое творческое мироощущение писатель мог только через принципы эстетической игры, способной разрешить вопрос «об отношении его художественного опыта к той побуждающей силе, которая двигала его пишущей рукой» [2, с. 7]. В силу своей релятивистской природы игра в искусстве балансирует между серьезным и комическим, иллюзией и реальностью, красотой и ужасом, опровергая причинно-следственные законы бытия и творчества, поэтому в искусстве, как считал В.Набоков, невозможно провести «четкую линию между трагическим и шутовским, роковым и случайным, зависимостью от причин и следствий и капризом свободной воли» [7].
Заимствовав комическую сторону народного театра, а также традицию европейской комедии дель арте, русская авангардная драматургия в лице В.Мейерхольда, Н.Евреинова, Ф.Комиссаржевского, В.Хлебникова, А.Таирова возродила в футуристической интерпретации европейские фарсовые жанры и образы итальянской средневековой комедии масок, испанской барочной пьесы, бродячих театров марионеток. «Эта тенденция, как заметит финская исследовательница Б.Леннквист, – проявилась в выборе тем — цирк, клоунада, комедиа дель арте, маскарад, — но также она отражает и некоторую эстетическую позицию. Искусство все более напоминало игру, а художник — циркача, стремившегося удивить и поразить публику» [3]. Комическо-пародийные эксперименты модернистского театра были направлены на критику традиционных драматических форм и принципов реалистической игры, прежде всего на известную систему Станиславского, основанную на критериях миметического искусства. Идею театра как некоего параллельного реальному миру пространства продвигал в своем творчестве В.Мейерхольд, говоря в статье «Балаган» (1912), что «зритель обязан „смотреть на представление актеров не иначе, как на игру. И всегда, когда зритель вовлечен актером в страну вымысла слишком глубоко, актер стремится как можно скорее ‹…› напомнить зрителю, что то, что перед ним творится, только “игра”» [4, с. 161].
Философский трактат Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» считался в 30-е годы XX века концепций театра будущего, где главную роль играет сверхчеловек с его целеустремленной бессознательной дионисийской «художественной силой, вызвавшей вообще к существованию весь мир явлений» [5, с. 571] и претендующий на роль Творца искусства. Осознающий себя гением, такой «человек, поднявшийся до титанического, сам завоевывает себе свою культуру и принуждает богов вступить с ним в союз, ибо в своей приобретенной мудрости он держит в руке их существование и пределы» [5, с. 488].
Идеи модернистского театра стали матрицей прозаического творчества В.Набокова и нашли отражение в его лекциях «Трагедия трагедий» и «Ремесло драматурга», которые писатель составил для чтения курса драматургического мастерства в Стэнфорде в 1941 году. Драматические опыты писателя совпали с модернистскими исканиями европейских теоретиков театра, прежде всего с ницшеанским учением о дионисийской драме, а также с возникшим в 20-е годы сюрреалистическим театром француза А.Арто, продвигавшего барочную формулу «жизнь есть сон», которую В.Набоков применил в «Трагедии господина Морна». В.Набоков вводит мотив сновидений как стимула для пробуждения творческого подсознания, устраняющего логику детерминизма, о чем А.Арто писал в своем трактате «Театр и его двойник» (1938), утверждая, что «человеку остается лишь снова занять свое место где-то между сновидениями и событиями реальной жизни» [6, с. 184]. Европейская концепция творчества стала основополагающей для В.Набокова, поэтому неудивительна его близость к сюрреалистической теории А.Арто, с которым его объединял принцип театральности в искусстве, существующий на уровне подсознания и понимаемый как «магическая операция», функция которой не играть пьесы <…>, а научиться выявлять в некоторой материальной, реальной проекции все то, что есть в духовной жизни темного, скрытого и неявленного» [6, с. 53].
Набоковская драматургия вошла в «русский» период творчества писателя наряду с рассказами и романами, положив начало крупным жанровым формам писателя, а также его представлениям о писательском искусстве. В период с 1923 по 1938 годы Набоков написал 7 крупных пьес, не считая малых сценических форм. Увлеченный театром, В.Набоков только за 1923 год создал четыре пьесы»: «Смерть», «Дедушка», «Полюс», «Трагедия господина Морна», в 1925 году написана пьеса «Человек из СССР», впоследствии появились драмы «Событие» и «Изобретение Вальса». Рассматривая приемы современной драматургии, В.Набоков обращается в первую очередь к опыту европейского модернистского театра, влияние которого было значительным и на русский авангард.
Набоковские романы также следует рассматривать со стороны их театральности, зрелищности, устраняющей любое возможное соотношение с действительностью, например, Н.Букс отмечает, что в романе «Приглашение на казнь» «воспроизводится поэтика модернистского театра», а «каждая глава романа – не только отдельный день, но акт пьесы, который начинается освещением сцены и кончается наступлением темноты» [8]. Ю.Левин отмечал, что «в “Даре” жизнь предстает как спектакль, хеппенинг, пантомима, разыгрываемая людьми, вещами, мыслями, голосами» [9, с. 298]. Пьеса «Смерть», по замечанию И.Галинской, – прямая перекличка с романом «Соглядатай», где «развивается идея существования человека после самоубийства» [10].
Подобно драматургам – модернистам, Набоков призывает отказаться от следования существующим классическим шедеврам, так как настало время современной, индивидуальной, не опирающейся ни на какие авторитеты драматургии, как говорил по этому поводу А.Арто, «шедевры прошлого хороши для прошлого, они не пригодны для нас. Мы имеем право сказать то, что было сказано, и даже то, что еще сказано не было, именно так, как хотим этого мы, непосредственно, прямо, в соответствии с современными формами восприятия, легко доступными для всех» [6, с. 141]. Призывая не цепляться за «одряхлевшие правила» [7], Набоков и классику воспринимает с точки зрения модернистской иррациональности, причисляя к трагедиям-сновидениям пьесы Шекспира «Король Лир» и «Гамлет», гоголевского «Ревизора», некоторые пьесы Ибсена, а также «Бувара и Пекюше» Флобера как роман-сновидение. Принцип сновидения, выдвигающий в качестве основной функции личности критерий творческого бессознательного, служит Набокову условием разрушения здравого смысла на пути к установке о господстве вымысла и алогизма в творчестве, как говорит писатель, «логика сна, или возможно, лучше будет сказать, логика кошмара замещает в них элементы драматического детерминизма» [7].
Суждения Набокова о театре складывались под влиянием дискуссионных мнений как русских, так и европейских теоретиков и критиков театра. В.Набокову были близки суждения о театре писателей-эмигрантов, среди которых следует назвать В.Вейдле и его книгу «Умирание искусства» (1937), идеи которой нашли отражение в статье «Трагедия трагедий». Не вызывает сомнения влияние театральной теории Н.Евреинова, изложенной в трактатах «Театр для себя», «Театр как таковой», «Демон театральности».
В современной художественной парадигме искусство опирается на самое себя, только в состоянии игры оно может полностью освободится от действительности и перейти в стадию артистизма, в котором ему гарантирована вечность, подтвержденная бесконечностью разыгрываемого представления, о чем будет сказано в учениях идеологов европейской модернистской театральной эстетики. Все теоретики театра начала XX века были солидарны в отрицании традиционного театра, существующего по законам детерминизма. Декламируя эстетическую игру как основу движения мира, А.Арто скажет: «Когда я живу, я не чувствую жизни. Но когда я играю, только в этом случае, я чувствую, что я существую» [6, 239].
Идеи разрушения классического театра владели многими как русскими, так и западными модернистами и авангардистами, они подвергают критике детерминистский театр как подверженный здравому смыслу и логике в развитии драматического конфликта, в то время как модернистская эстетика ориентируется не на мимесис, а на иррациональные аспекты творчества, ницшеанский дионисийский театр, призванный устранить проблему разума и действительности посредством чистой игры, для чего необходимо разрешить противоречие между аполлонической гармоничной культурой и природно – страстным дионисийским исступлением.
Критерии современного модернистского театра почти одновременно сформулировали русский историк театра и режиссер Н.Евреинов и французский исследователь и драматург А.Арто. Н.Евреинов и А.Арто были независимы в своих театральных изысканиях, но их объединяет дух отрицания традиционного детерминистского театра в пользу идеи «чистого театра» без копирования жизни, по словам А.Арто, «если театр – это игра, то у нас слишком много других серьезных проблем, чтобы проявить хоть малейшее внимание к чему-то столь случайному, как игра. Если же театр не игра, если это подлинная реальность, то нам прежде всего надо решить вопрос о том, каким образом можно вернуть ему статус реальности, как сделать из каждого спектакля своего рода событие» [6, с. 48]. Н.Евреинов, как и А.Арто, видел в театре возможность преодоления человеческого содержания личности, как говорил Ф.Ницше, необходимо избавиться от «человеческого, слишком человеческого» и обрести свое подлинное «я» в своем Двойнике, подсознательном сверхчеловеке, гении игры, в котором если и присутствует личностное начало, то преображенное в творческие инстинкты, преодолевающее собственное «я»: «Ведь в “театре” главное, чего я хочу, — это быть не собою, а в “искусстве” как раз наоборот — найти самого себя, излить самое сокровенное моего “я”, моего аитштатос, в искреннейшей форме!» [11, с. 46]. Ключевую тему набоковской драматургии, как и всего творчества, можно выразить словами Н.Евреинова, изложенную им в трактате «Театр как таковой»: «Глубоко важно проникнуться тем незыблемым, на мой взгляд, положением, что в истории культуры театральность является абсолютно самодовлеющим началом и что искусство относится к ней примерно так же, как жемчужина к раковине. <…> И я думаю, что в истории культуры именно театральность была некоего рода пред-искусством, понимая последнее в общепризнанном смысле» [11, с. 44,47].
Следуя духу модернистской теории драматического искусства, В.Набоков ориентируется на модернистские положения о театрализации бытия, устраняющие здравый смысл и преодолевающий человеческое содержание, что неминуемо выводило личность на архетипический уровень господства инстинктов, устанавливая внелогические связи между людьми, не случайно А.Арто сравнивал подобный страстно-иррациональный театр со смертельной болезнью, чумой, говоря, что «есть нечто сходное между больным чумой, который с криком бежит вслед за своими видениями, и актером, гоняющимся за собственными чувствами. Воздействие сценического чувства с его немотивированностью, оказывается бесконечно более ценным, чем воздействие чувства реального» [6, с. 116]. Н.Евреинов вводит понятия «демон театральности» и «театральный инстинкт», придавая новому театру статус религиозного учения: «Да будет же, наконец, дух театральности признан, вне предрассудков, не как начало отрицательное нашей трудной жизни, а как начало положительное, сулящее неисчерпанные радости преображения и исходящее, — поверим в это — не от Сатаны несуществующего, а от Театрарха, чьи маски, даже самые ужасные и отвратительные, должны быть благословенны в общем ходе нашей здешней трагикомедии [11, с. 418].
Задачи современного театра – стирание границ между искусством и реальностью, использование гротескных, шокирующих публику приемов, превращающих представление в скандал, китч, где даже жестокость становится необходимым фактором развития искусства и служит аналогом очищающего античного катарсиса. Крюотический театр А.Арто впервые выдвигает аспект жестокости как прототип творческого состояния, высвобождения «темных пластов сознания» [6, с. 54], трансформирующихся в художественные формы.
В крюотическом театре происходит высвобождение творческого подсознания как архетипического свойства личности, помнящей о своем животном происхождении, что психологически было обосновано К.Юнгом. А.Арто следует К.Юнгу в определении коллективного бессознательного, которое проявляется в зрителе и в актере, очищая его от вытесненных образов через творческий акт жестокости. В модернистском театре жестокости происходит распад личности и ее уничтожение, в драматическом произведении на пьедестал возносится жестокий человек с первобытной волей к насилию и презрением к миру, подобный ницшеанскому сверхчеловеку, который воспринимает жестокость как творческий акт, проявляя тем самым свою первобытную энергию в противостоянии жестокому бытию, по словам А.Арто, «театр кровав и бесчеловечен, как сновидения и грезы, не случайно, а ради того, чтобы выразить и внедрить в наше сознание идею вечного конфликта и спазма, когда жизнь ежеминутно пресекается…» [6, с. 184] (примером служат пьесы А.Арто «Семья Ченчи», «Кровяной фонтан», «Самурай»).
Компонент жестокости в набоковском творчестве играет также важную роль и присутствует как фактор разрушения причинно-следственной модели и утверждения «ужаса случайности» [7], кошмара, отвергающего типичность и предсказуемость происходящего, ведь «невозможно провести четкую линию между трагическим и шутовским» [7]. Поэтому элемент жестокости у В.Набокова присутствует как эстетическая функция, формируя «уникальный узор жизни» [7] в эпатажном, призванном шокировать своим артистизмом произведении, как считал А.Арто, «без элемента жестокости в основе всякого спектакля театр невозможен» [6, с. 159]. Эстетизированная жестокость как фактор артистического поведения героев присуща многим произведениям В.Набокова, например, писатель проповедует культ смерти, воплощенный в творческом акте («Отчаяние», «Соглядатай, «Защита Лужина, «Приглашение на казнь», «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Смех в темноте» и др.), но в то же время в духе представлений А.Арто, набоковские персонажи (актеры) «одновременно элемент пассивный и нейтральный, поскольку ему строго отказано в личной инициативе» [6, с.159], так как они полностью подчинены автору.
Уже по пьесам В.Набокова можно было проследить тотальную игру с формами бытия: прошлым, настоящим, будущим и сферой трансцендентальной потусторонности, ни в одной из которых он не находил привязанной к жизни подлинности, связывая их бессознательными эстетическими ассоциациями, как скажет писатель, «все умещается в одну сияющую секунду, и впечатления, и образы сменяются так быстро, что не успеваешь понять ни правила <… >, ни точное соотношение частей» [12, с.474]. В результате текст произведения становится только художественной формой, полем действия «бесконечности означающего» [13, с. 415], предполагающего игру смыслов, но не углубляясь в них, а действуя посредством смещения, взаимоналожения, варьирования элементов» [13, с. 416]. Художественный язык уподобляется игре в куклы, превращая слово в «звуковую куклу, словарь – в собрание игрушек» [3].
Взяв за основу принцип игры, В.Набоков через драматическое творчество распространил его на весь корпус своих произведений, которые можно назвать игровой интермедиальной системой, объединяющей театр, кинематограф и эпические формы литературы, что было замечено эмигрантской критикой. Вот что говорит К. Парчевский о внедрении В.Набоковым приемов театральности в прозу: «Трудно найти среди наших новых крупных беллетристов такого, кто менее автора Приглашения на казнь соответствовал бы – по складу и утонченной ухищренности письма – требованиям, предъявляемым театром» [14, с. 163-165].
В поисках параллелей набоковским пьесам исследователи, по словам Б.Носика, находили их «то у Шекспира, то у Пушкина. Карлинский указывал в этой связи на традицию стихотворной драмы у русских символистов, у Блока, потом у Цветаевой» [15, с. 183]. Начиная с первых постановок, пьесы В.Набокова воспринимались как отступление от традиций реалистического театра, замысел автора не всегда осваивался публикой и был понятен, как говорил критик набоковской драматургии К.Парчевский, не принимая драматургических экспериментов модернистского театра, «сцена не терпит капризной разбросанности в развитии сюжета, метания из стороны в сторону, беспрестанных скачков от одного отрезка времени к другом <…>, должно быть стройное, последовательное развитие действия – то, что древние формулировали в требовании единства времени и места, а мы называем единством стиля и интереса» [14, с. 163].
Прием театральности помогает В.Набокову усилить игровой компонент произведения, а созданные им в период европейской эмиграции пьесы, наряду с другой «литературной продукцией» «служила как бы разминкой, разбегом перед неожиданным, удивившим русскую публику скачком» [15, с.183]. Не вызывает сомнения, что все основные темы и приемы стиля В.Набоков воплотил сначала в своих пьесах, игра уже в этот период становится естественным способом существования произведения, посредством разыгрывания сюжетов, писатель создавал некий собственный артистический мир, где, как говорится в игровой теории Й.Хейзинга, «вещи имеют иное лицо, чем в обычной жизни», имея в виду, что «поэзия никогда не бывает совершенно серьезной» [16, с. 122].
В.Набоков структурирует свой художественный мир по образу и подобию театральной игры, управляемой волей художника, в чем и состоит стратегия обретения самобытного стиля и господства приема, усиление страстного эффекта зрелищности, а также открытое появление в пьесе особого авторского представителя-режиссера, alter ego писателя, что гиперболизировало театральность как способ выявления и выставления вперед творческого подсознания художника. Восприняв идеи В.Вейдле о падении театра и отсутствии искусства в реалистическом произведении, В.Набоков в статье «Трагедия трагедий» подвергает критике драматическую трилогию американца О’Нила «Траур – участь Электры». Упадком искусства В.Набоков называет «губительные результаты приверженности причинно-следственной связи, старательно упакованными в одну пьесу» [7]. Как считает писатель, драма О’Нила отображает иллюзию «логики судьбы», предопределяющей «пару самоубийств самого ужасного рода», согласно той же логике, «здесь наличествует Рок, ведомый под один локоток автором, а под другой – покойным профессором Фрейдом» [7]. Для В.Набокова гибелью искусства была иллюзия реализма, «согласно которой жизнь, а стало быть, и отображающее жизнь драматическое искусство должны плыть по спокойному течению причин и следствий, несущему нас к океану смерти» [7]. Искусством драматического конфликта В.Набоков называет отсутствие канонических, «мраморных» правил, дающих возможность проявиться «стихии случая» [7], ведь даже «величайшие из драматургов так и не сумели понять, что случай ерничает далеко не всегда и что в основе трагедий реальной жизни лежат красота и ужас случайности» [7]. Гениальность художественного произведения и определяется «пульсацией этого потаенного ритма случайности» [7], создающей требуемый писателем «уникальный узор жизни», отражающий индивидуальность и оригинальность художника, а не правила традиций.
В процессе работы над пьесами, В.Набоков приходит к выводу, что творческий процесс – это умелая игра автора, Magister Ludi, создающего собственные правила построения (структурирования) произведения как избыточного по отношению к реальности на основе приемов интертекстуальности, отменяющих категорию мимесиса. Взаимодействие с кодами разных культур и аллюзивные соотношения с иными узнаваемыми образами других произведений создают ситуацию игры этими образами и смыслами, подчиняясь задачам обновления языка культуры в целом, стремясь преодолеть энтропийное состояние всеобщего хаоса в культуре и жизни, устраняя все логические противоречия искусством-игрой, удовольствием от художественного вымысла.
Основанный на верности природе мимесис В.Набоков заменяет приемом сновидения, галлюцинаций как аналога творческого бессознательного, выводящего драматургию из сферы реалистического воплощения замысла, а также способствуя созданию иной, мифопоэтической магической реальности как двойника-антипода материалистической действительности, поэтому он исключает натуралистические аспекты, способствующие слишком однозначному восприятию реальности: «… сложные описания остановки (множество подробностей и очень пространно) встречаются на страницах худших пьес, и наоборот, очень хорошие пьесы к этой стороне дела скорее безразличны» [7].
В.Набоков считал несовместимым с понятием искусства управление им причинно-следственными законами, о чем он говорит в статье «Трагедия трагедий»: «Наивысшие достижения поэзии, прозы, живописи, режиссуры характеризуются иррациональностью и алогичностью» [7]. Отсюда основная мысль набоковского творчества, характеризующая драматурга как художника, свободного от здравого смысла: «автор свободно создает собственный мир», подчеркивая ложность конфликта, «основанного исключительно на логике» [7]. Ключевой мыслью статьи «Трагедия трагедий» является необходимость создания новой творческой стратегии для драматурга, который в противовес реалистическому детерминизму выстраивает в произведении собственный мир по иррациональным законам искусства, не подчиненным логике и правдоподобию.
Стремясь преодолеть границы реализма, В.Набоков в духе модернистского театра опровергает аристотелевский принцип правдоподобия, устраняя миметическую функцию пьесы как антихудожественную, поскольку мимесис превращает пьесу в «механическую игрушку» [7], предопределяя развитие и завершение конфликта, не оставляя места фантазиям художника: «Мы обнаружили, – говорит писатель, – что термин “трагедия” является тождественным не только року, но и нашей осведомленности о чей-то медленной и неумолимой судьбе» [7]. Опровергая безличный рок античных драм, действие которых обусловлено детерминированным предопределением божества, В.Набоков на место Творца ставит собственное авторское alter ego, которое своей волей распоряжается пьесой и жизнью героев.
Ключевым положением В.Набокова в вопросе определения задачи театра является «отрицание конфликта, управляемого причинно-следственными законами человеческой судьбы» [7], как говорил писатель, «высшей формой трагедии мне представляется создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного человека будут следовать правилам его собственной индивидуальности» [7].
В статье «Ремесло драматурга» В.Набоков излагает теоретические положения о способе создания драмы и ее воздействия на зрителя. Писатель рассматривает пьесу как «идеальный сговор» драматурга и некоего внешнего двойника-соглядатая, «вольного духа», призванного разрушить принцип причинно-следственного реализма с его вовлечением зрителя в театральное действие, что было характерно для опыта советского театра. Единственно приемлемая сценическая условность, по мнению В.Набокова, – «люди на сцене, которых вы видите или слышите, ни в коем случае не могут видеть и слышать вас», так как должна существовать непреодолимая дистанция между автором и зрителем, как «отношения между индивидуумом и внешним миром» [7]. Будучи абсолютным диктатором в созданном им творческом мире, писатель вступает в «сговор» с «незримым миром вольных духов», наблюдающих за «неподвластными нам, но вполне земными происшествиями» [7]. Наблюдающий со стороны действие зритель / читатель не может повлиять на происходящее, как считает автор, «мы так же бессильны воздействовать на ход событий, как обитатели сцены бессильны увидеть нас, воздействуя при этом на наше сокровенное «я» с легкостью почти сверхчеловеческой» [7], и принимает диктат автора как сверхъестественного существа. Главная задача пьесы – возвысить талант автора-демиурга, допуская единственный дуализм – отделение «я» от «не-я», то есть, возвышение автора и его искусства над зрителем. Между зрителем / читателем должна существовать «непреодолимая преграда» [7], запрещающая автору зависеть от реакции зрителя, иначе нарушится «необходимая условность, без которой ни «я», ни мир существовать не могут» [7]. Провозглашая превосходство искусства над жизнью, В.Набоков называет необходимую условность для существования произведения вне детерминистских законов в сфере свободной эстетической игры – это «бесплотное всеведенье и невозможность физического воздействия с нашей стороны, физическое неведенье и значительное воздействие со стороны пьесы, – все остальное следует отбросить» [7], чтобы понять принцип расположения художественного произведения, согласно хейзинговской игровой теории – «по ту сторону серьезного – в той первозданной стране, откуда родом дети, животные, дикари, ясновидцы, в царстве грезы, восторга, опьянения, смеха» [16, с. 120].
Исходя из концепции модернистского театра, следует учитывать влияние аспектов подсознания, пробуждающих эстетические эффекты трагического, ведущие к высокому потрясению зрителя, но не от жизненно мотивированных действий героев драмы, а от их преодоления алогичными поступками. Во время представления зритель, по мнению В.Набокова, не должен забываться, увлекшись действием как иллюзией реального отображения жизни, напротив, автору необходимо внедрять метатекстовый принцип, обнажающий приемы построения драмы, чтобы усилить зрелищность и алогичность представления, но при этом должно быть условное разделение между зрителем и театральным представлением, ставится незримая граница между зрителем и сценой (четвертая стена). Драма, как считал В.Набоков, не должна превращаться «в игру с публикой», иначе «она уподобляется заводному волчку, который, столкнувшись с препятствием, взвизгивает, валится на бок и замирает» [7], вслед за Н.Евреиновым писатель полагает, что пора вернуть театру его истинное предназначение: «Театр должен быть прежде всего театром, т. е. самодовлеющей художественной величиной, покоящей свою эстетическую сущность на синтезе всех искусств, но притом с таким расчетом, чтобы не нанести урона самостоятельному значению сценизма — этой альфе и омеге истинно театрального искусства» [11, с. 41].
В.Набоков использует идеи театра как прообраз собственной творческой системы, встраивающей жизнь в структуру эстетической игры, но в отличие от заявленных театральных требований А.Арто, Н.Евреинова, А.Таирова, которые выделяли главенствующую роль актера как движущую силу монодрамы, воссоздающей внутренне-интуитивный мир героя, писатель ставит в центре созданной им творческой системы не актера, а самого себя в качестве Magister Ludi, сверхчеловека, режиссирующего представлением, который управляет театром марионеток, где человек не становится самим собой, напротив, он преодолевает собственное «я», чтобы удалить в себе личностное начало.
Вовлечение зрителя в театральное действие В.Набоков считал «нелепостью», «эти потуги связаны с предположением, что и актеры – тоже зрители» [7], создающие единое пространство. Единственно признаваемым приемом вмешательства публики в представление является симулятивное разыгрывание этого взаимного участия, «когда актер подходит к рампе и обращается к публике с предполагаемым объяснением или пылким призывом, эта публика является вовсе не реальной, сидящей перед ним публикой, но той, которую создал в своем воображении драматург, то есть, чем-то таким, что все еще относится к сцене, театральной иллюзией, набирающей тем большую силу, чем естественнее и непринужденнее такое обращение» [7]. Существует непреодолимая черта между автором пьесы и публикой, которую В.Набоков называет «отвлеченным представлением драматурга о своей аудитории» [7]. Лозунгом его творчества можно считать слова Н.Еверинова о тотальной роли театрального инстинкта в творческом процессе: «Захоти только театра, а актеры найдутся!» [11. с. 399].
Определяя природу набоковского творчества, сын писателя, Дм.Набоков говорил: «Я отметил его пристрастие к превращению жизни в искусство <…> Подобно тому, как он изобретал “не противоречащих науке” бабочек и “новые деревья” (в Ардисе), он посредством комбинаций превращал жизнь в фантастическую, но правдоподобную реальность» [7]. В.Набоков превращал в театральное представление окружающую его реальность, следуя логике артистизма, которая и есть внутренний естественный закон творческой личности, названный «театральным инстинктом». В созданном модернистами театре господствовал герой – сверхчеловек, каким его представляли и Ф.Ницше, и А.Арто, и Н.Евреинов с его сверхспособностями, данными от природы, поэтому он играет, словно живет естественной жизнью.
Создавая своих героев, В.Набоков исходит из абсолютного принципа игры, когда человек не разделяет сцену и жизнь, играя в обоих случаях, поэтому писателю был близок тип «прагматической маски», предложенной Евреиновым, когда лицедей «остается адекватным себе» [11, с. 23]. Отсюда два типа актеров: изображающие других, «т. е. лиц, противоположных им по характеру» (Давыдов, Шаляпин, Грановская, Комиссаржевская) и являющие «на сцене самих себя» (Варламов, Макс Линдер, Юренева). Новая же маска дает возможность актерам «явить на подмостках театра себя самих в повторении действительно случившегося с ними» [11, с. 23]. Расширяя понятие театральности и совмещая его с критериями человеческой личности, В.Набоков вслед за Н.Евреиновым полагал, что театральный инстинкт возвращал человека к его истинной природе, раскрепощая в нем скрывающегося в подсознании Двойника-актера, о чем говорится в «Эпиктете»: «Ибо тот “театр”, который мы наблюдаем не только в нашей жизни, но и в жизни животных (и в жизни самой природы!), показывает, что и лицемерие, и мимикрия, и защитное сходство, и всякого рода маскировка, выражающая этот изначальный “театр” – театр самой природы, – все они служат не к ослаблению борьбы за жизнь и ее блага, а к укреплению этой “struggle for life” и к ее наилучшей страховке» [17, с. 119].
В.Набоков соединяет в процессе творчества эстетизм и театральность, подчеркивая тем самым искусственность своих текстов, а также лишая героев жизненно-личностного содержания, демонстративно подчеркивая как наигранность происходящего, так и отсутствие личности, замененной своим артистическим двойником с инстинктами лицедейства. Наряду с теоретиками модернистского театра В.Набоков утверждает наступление новой эпохи карнавальности, комедии масок, когда театральность подменяет собой все жизненные процессы, «так как каждая минута нашей жизни — театр» [11, с. 89], поэтому «чтение пьесы и просмотр спектакля соответствуют проживанию жизни и грезам о ней – и тот, и другой опыт позволяет получать одинаковое наслаждение» [7], исключая из процесса искусства серьезность, вторя карнавальной идеологии модернистского театра, как говорил Н.Евреинов, «меньше всего я хотел бы, чтобы меня считали серьезным человеком, потому что перед серьезными людьми снимают маски или надевают только печальные, женщины не кривляются, дети играют без удовольствия, военные реже звякают шпорами и не желают рассказывать анекдотов. К тому же дураки всегда серьезны [11, с. 86].
«Не быть самим собой! — первый девиз театральности» [11, с. 49], провозглашенный Н.Евреиновым, можно считать и девизом творчества В.Набокова, структурирующего свои произведения в виде театрализованной игры, которая и является естественным выражением правдоподобия и не связана с причинно-следственной реальностью, о чем он говорит в «Трагедии трагедий»: «И хотя в “реальности” мы не в состоянии отсечь один побег жизни от других ее ветвящихся побегов, мы производим эту операцию на сцене, отчего следствие становится окончательным, ибо не предполагается, что оно содержит в себе некую новую причину, которая готова распуститься где-нибудь по ту сторону пьесы» [7].
Используя театральную парадигму, В.Набоков абсолютизирует идею игры, художественное произведение у него независимо от сюжета и жанра приобретает характер зрелища, китча, в процессе которого происходит вытеснение жизненности из творчества ради создания высшей артистической реальности, подобно другим модернистам, он считает, что «жизнь не стоит показывать такой, какой она есть»[6, с. 54], ее следует видоизменить в соответствии с игровой природой человека, сделать его не продолжением литературы, а самой реальностью, но не человеческой, а «бесчеловечной», где, по словам А.Арто, «человек с его нравами и характером для нее мало что значит» [6, с.139]. Исходя из философии модернистского театра, трактующий мир через инстинкт театральности, В.Набоков моделирует собственный тип творчества, излагая его главный аспект в «Трагедии трагедий: «Наивысшие достижения поэзии, прозы, живописи, режиссуры характеризуются иррациональностью и алогичностью, тем духом свободной воли, который прищелкивает радужными пальцами перед чопорной физиономией причинности» [7].
Ориентируясь на достижения модернистского театра, В.Набоков создает новую технологию творчества, акцентируя внимание на принципе игры, формирующей всеобщее карнавальное сознание, ведь для зрителей и читателей искусства модернизма, а затем и постмодернизма игра даже в своих крюотических проявлениях выступает в комически-шутливых формах, пародируя и искажая все серьезное и духовное, сами писатели постулировали мысль об удовольствии как главной цели текста-игры, которая для играющего всегда лучший мир (антимир и гиперреальность по отношению к серьезности и истине). Главенствующее значение имеет только искусство, именно через инстинкт театральности (игры) оно может преодолеть «физическое воздействие» окружающего мира и перейти в стадию «бесплотного всеведенья», той самой «идеальной игры» (Делез) [18, с. 88], способной порождать произведение искусства.
Библиографический список
- Хасин Г. Театр личной тайны. Русские романы В.Набокова. М.: СПб.: Летний сад, 2001, 188 с.
- Барабтарло Г. Сочинение Набокова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011.464 с.
- Леннквист Б. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова.
Спб., 1999. С. 75–127, 214–222 - Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М.: Искусство, 1968. 250 с.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Минск: «Харвест», 2007. 1037 с.
- Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М.: «Симпозиум», 2000. 443 с.
- Набоков В. Лекции о драме. М.: Азбука-классика, 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://royallib.com/book/nabokov_vladimir/lektsii_o_drame.html – Дата доступа: 10.05.2016.
- Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце // Н.Букс О русских романах Владимира Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 1998. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://coollib.com/b/240152/read - Дата доступа: 10.05.2016.
- Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика Семиотика. – М.: 1998.
- Галинская И. Набоков – драматург // И.Галинская Владимир Набоков: современные прочтения Сб.науч.тр. / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. культурологии; Отв. ред. Скворцов Л.В. – М, 2005.
- Евреинов Н. Демон театральности. М.; СПб.: Летний сад, 2002, 535 с.
- Набоков В. В. Искусство литературы и здравый смысл // Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Издательство «Независимая газета», 1998. 510 с. С. 465–476.
- Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: ИГ Прогресс, 1989. 616 с.
- Парчевский К. Русский театр: «Событие» В.Сирина // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н.Г.Мельникова. М.: Издательство «Новое литературное обозрение», 2000. 688 с. С.163–165.
- Носик Б. Мир и дар Набокова. СПб.: Издательство «Пенаты», 1995. 552 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М.: «Прогресс-Традиция», 1997. 416 с.
- Евреинов Н. Эпиктет // Н.Евреинов Тайные пружины искусства: статьи по философии искусства, этике и культурологи: 1920-1950 гг. М.: Ecce homo; Логос – альтера, 2004, 195 с.
- Делез Ж. Идеальная игра // Ж.Делез. Логика смысла (вторая половина). М.: Издательство «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998. 480 с.