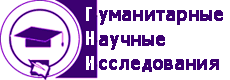Глубинные онтологические противоречия разума и Истории.
Традиционно считается, что в социально-гуманитарных науках субъект и объект изучения фактически не разделены в силу того, что сам исследователь является человеком и членом того или иного общества. При этом мало кто будет отрицать, что демаркационной линией между учёным и тем, что он изучает, является раздельность мышления исследователя и объекта его научного анализа. А уже отсюда – возможность влияния субъекта на объект. Поэтому гуманитарные науки являются, скорее, объект-объектными, ведь исходную точку спирали взаимного влияния сторон процесса здесь раскрыть до конца невозможно.
Уникальный случай в данном ключе представляет историческая наука. Её невозможно отнести к не-гуманитарным. Однако исторической науке на сегодняшнем этапе развития явно присуще сильное методологическое тяготение к естествознанию. Его маркером служит как раз вопрос субъект-объектности.
Очевидно, что История и историческая наука – вовсе не тождественны. Вторая есть преломлённое отражение первой, попытка её описать и проанализировать. При этом между ними существуют преграды как объективные, не зависящие от веяний конкретного времени, так и продиктованные действующей научной парадигмой.
Столпами исторической науки являются категории факта и времени. Если предельно редуцировать, История представляет собой изменение любых фактов во времени. Она не может оперировать константами, это всегда развитие. Там, где нет факта и какой-либо его динамики, там нет истории, нет канвы развития.
Объективно историк отделён от изучаемых им фактов временной гранью, а зачастую и пространственно-временной. Фактор времени не даёт считать даже те же самые явления или характеры идентичными самим себе в прошлом, не говоря о прочих, поэтому грань здесь налицо. Историк, как правило, пишет о том, что было до его рождения или сознательного участия. Его личность находится вне объекта исследования, связана с ним косвенно.
Кроме того, историк никак не может повлиять на изучаемые факты, будь они от него хоть в 1000 лет, хоть в 20-ти, это прямое следствие разновременности. Как метко выразился Л.Н. Гумилёв, сегодняшнее утро вернуть ничуть не легче, чем эпоху Пунических или Наполеоновских войн [1, с. 6]. Учёный может лишь дополнять знания о фактах, анализировать их связи, формировать или менять интерпретации. Не в силах исторической науки и провести «чистый» научный эксперимент, смоделировав или тем более воссоздав предмет изучения.
Налицо здесь и методологическое разъединение субъекта и объекта. Историк изучает, строго говоря, не саму Историю в её необъятности, а опредмеченные исторические источники. Между ним и собственно изучаемым аспектом как единственный коммуникатор лежат источники, а в «избитой» теме – ещё историография. То есть здесь нет и не может быть непосредственной связи разума с исследуемым объектом. Лишь опосредованная, причём многократно.
Можно увидеть диссонанс и в том, что суть Истории – постоянные изменения различной длительности, а описывает их сложившийся взрослый человек, личность которого условно можно считать константой как в плане краткости жизни в сравнении с Историей, так и в плане масштаба качественных изменений.
Разделение субъекта (разума) и объекта (Истории) в исторической науке, имеющее глубокие корни, считаю, усилено и искусственно. Не секрет, что классическая философия науки Нового времени с ликованием «подняла на щит» идеал объективной беспристрастности исследований в любой сфере. Для чего провозгласила всемерное отделение субъекта от объекта изучения, фактически и историков объявив в том числе надындивидуальными наблюдателями.
Эта демаркация весьма неоднозначна для исторической науки как в целом гуманитарной по своей сути. Убеждён, что сведение её лишь к прокрустовым меркам субъект-объектной дисциплины несёт в себе серьёзные минусы.
А базовая раздельность сторон в историческом исследовании значительно влияет и на философию истории. Вполне очевидно, что позиции последней являют собой у многих философов синтез их представлений в антропологии, гносеологии и собственно исторической науке как конкретному материалу приложения. Здесь крайне важно влияние каждого элемента.
Историческая наука, считаю, по определению сильно тяготеет к рационализму. И если она встречается с рациональной же антропологической и гносеологической философской картиной, то приводит к рационалистической философии истории. Это проявляется в склонности к криминалистическому разбору Истории и нарративности в сочетании с широкими логическими обобщениями.
Если же в двух философских компонентах ratio не господствует, то описательно-концептуальный рационализм исторической науки нивелируется осознанием. Она в итоге даёт лишь фактуру, а не задаёт смыслы. Тогда философия истории «оперяется» и перестаёт быть лишь скромным «довеском» историков.
Теперь необходимо пояснить, какой философской антропологической и гносеологической модели я придерживаюсь. Она заключается в тройственной природе человека, объединяющей физическое тело, духовное начало (последую здесь обозначению «душа») и разум (ratio). Термины не притязают на точность, но вкупе дают целостный философский контур человека.
При этом я считаю разум неким совместным продуктом души и тела, прижизненным синтезом духовного и физиологического. Разум служит душе как своему родителю, хотя ему приходится служить и другому родителю – физическому телу. Вопрос в соотношении степени служения им.
Соответственно, каждая из трёх составляющих представлена своим видом познания. Органы чувств тела обеспечивают эмпирическое восприятие, ratio формирует абстрактно-логические конструкты, а душа является сферой иррационального познания, интуиции. Здесь нет большой оригинальности, хотя споры о числе элементов и их соотношении в философской мысли идут веками.
Версия понимания составляющих человека приведена как базис рассуждений по философии истории. Далее здесь очень важен гносеологический аспект. Известно, что новоевропейская историческая наука, а вместе с ней и философия истории, основной упор сделала на эмпирический и рациональный уровни получения и обработки сведений об Истории. Хотя, конечно, представление о необходимости главенства разума имеет гораздо более древнюю традицию. А духовному фактору отдавалось, на мой взгляд, незаслуженно мало места, что определялось провозглашением господства разума, опирающегося на данные органов чувств или разум более высокого, нежели человеческий, порядка.
Эта схема может быть вполне эффективной в других сферах знания, но создаёт серьёзные проблемы в философии истории. В первую очередь потому, что напрочь отсекает философа от объекта осмысления. Это заведомо ослабляет предлагаемые концепции, нередко делая их похожими на выморочные субъективные конструкты.
Разделение субъекта и объекта не всегда болезненно в исторической науке. Когда учёный чувствует свою действительную инаковость, соразмерность по значению с тем, что изучает, он может сохранять бесстрастность. Это определённое благодушие от осознания своей силы и весомости. Тут не нужно искажать реальное положение вещей, изо всех сил доказывая своё превосходство или, что реже, – убожество и недостойность.
Но в философии истории мы сталкиваемся с кардинально иным. Здесь приходится иметь дело не с отдельным военным конфликтом, правлением или стилем в искусстве определённого исторического периода. На кону – концепты, взгляд на важнейшие аспекты Истории в целом. Философ не может без ущерба для себя вычленить в Истории лишь небольшой кусочек «по вкусу». И о соразмерности, сравнимости масштабов исследователя и предмета тут нет и речи.
Давно замечено, что в познании мы нередко в уме разделяем то, чего не следовало бы разделять. Действительно, в научно-методических целях мы часто искусственно расщепляем мир и себя в нём. Тогда при опоре на разум философия истории может превращаться в стремление не познать и понять, а посоревноваться и подчинить себе Историю. Такой поворот происходит потому, что между ratio и Историей наличествует глубинное онтологическое противоречие. Суть его в том, что индивидуальный разум, считаю, конечен во времени и смертен. Отсюда проистекают его коренные различия с Историей.
Даже в масштабах нашей, небольшой по меркам Времени, человеческой жизни, самоосознание разума ещё короче. Мы не можем точно указать точку его (самоосознания) зарождения и только предполагаем момент прекращения действия (смерть физического тела?). Но точность не имеет принципиального значения, главное – мы знаем, что наш конкретный единичный разум существовал и будет существовать не всегда. Например, разум бессилен проникнуть в темноту даже нашего самого раннего детства, хотя мы как люди уже существовали. Нас не покидает ощущение временных пределов, рамок разума. Расхожее мнение гласит, что взросление человека напрямую связано с осознанием им своей смертности. Не берусь это утверждать, но сама постановка вопроса весьма симптоматична.
Наши воспоминания (а память – это абстрактные образы, то есть атрибут разума) выглядят как постепенное становление, а разум – как растущий или проясняющийся вместе с нами. Удивительным образом это нашло отражение в исторической науке в понятии «человек разумный» как ступени развития. По умолчанию разум не рассматривается как изначальный атрибут человечества и его конкретных индивидов. И в повседневной жизни развитие человека от его рождения воспринимается как путь укрепления разума, хотя бы в миниатюре и тысячекратно ускоренный.
Говорить об изначальности и бесконечности своего разума несерьёзно, даже неразумно с точки зрения самого ratio, ведь это в корне алогично. Разум делает выводы из примеров (индукция), проводит аналогию или указывает на примеры после утверждения (дедукция). Ни то, ни другое, ни третье в плане опровержения смертности нашего личного разума невозможно. У нас нет ни примеров бессмертия разума своего или других людей, ни соответствующих аналогий. Значит, ratio торпедируется собственной логикой, если будет ей следовать до конца.
Это даже если не брать во внимание предположение, что разум есть синтез души и тела, где физическая составляющая имеет точку отсчёта, а потому не может дать жизнь разуму прежде себя. И немудрено, что не видно мощной философской традиции, отстаивающей бессмертие именно индивидуального ratio.
Напротив, ясно обозначить пределы Истории мы не можем, она поражает нас своей протяжённостью, масштабом и неопределённостью сроков. Наша конечность – аксиома, а вот конечность Истории – нет. И подобно ускользающим воспоминаниям о младенчестве, несмотря на все усилия, мы чувствуем, что и в Истории есть некие неодолимые пределы нашего проникновения разума в прошлое и его объяснения. Имеется образное сравнение исторической науки с фонарём, свет которого, каким бы мощным ни был, по мере удаления от источника слабеет и постепенно теряется во мраке времён. Этот образ в целом красиво отражает предел способности разума пронзать толщу Истории.
Сократ в платоновском «Пире» рассказывает нам о свойственном человеку стремлении к бессмертию посредством создания материальных и нематериальных творений [2, с. 73-75]. Но Платон считал разумное начало частью души. Если же разум частью бессмертной души не является (а я придерживаюсь этого), то его стремление к продлению себя находится в конфликте с объективной реальностью. И продление жизни разума в различных творениях таковым не является. Это не продолжение существования и действия индивидуального ratio, а лишь создание памяти о нём.
Страх человека перед смертью, думаю, является порождением исключительно разума, потому что этот страх в основе своей логичен. У тела и души нет никаких оснований бояться: первое никоим образом не осознаёт свою смертность, а вторая не может Знать в категориях разума, но иррационально Ощущает и понимает, что она – нечто большее, чем скоротечная жизнь индивида. Она явно или скрыто верит в своё бессмертие, что для иррационального начала вовсе не является зазорным и не требует абсолютных доказательств. Это вопрос веры, а не научных сведений. Я склоняюсь к той точке зрения, что она не умирает вместе с телом и разумом. В любом случае, своей конечности и страха перед ней наша духовная составляющая не понимает. И потому её мотивации в отношении Истории качественно иные, нежели у разума.
Наш ratio знает на примере сотен предыдущих поколений о неизбежности своего угасания и невозможности этот путь изменить. Это накладывается на осознание разумом краткости своей жизни. В то же время мы знаем, что История длилась тысячелетия до нас и будет длиться ещё неизвестно сколько.
С этим связано неприятие разумом самой сути Истории как изменения фактов во времени. Для разума человека такое движение точно есть приближение к концу. И ratio стремится к статике, остановке изменений как шансу на бессмертие. Но реальных подкрепляющих примеров этого в Истории снова не находит. Тем более что Время течёт без усилий нашего разума. И в таком глубоком сущностном плане ratio тоже оказывается отделён от Истории.
Сложен и древен также вопрос соотношения истории конкретной личности и всеобщей Истории. Естественным и плодотворным направлением человеческой мысли было органично соединить эти два потока (Августин Аврелий). Сделать же это на сугубо рационалистической основе не получается в силу онтологических причин. Синтез возможен на иррациональной основе, где ratio играет вторичную роль.
Наш разум гнетёт и то, что на момент начала его самоосознания многие условия жизни человека уже предопределены, причём вовсе не им. Он вынужден начинать развиваться и действовать в достаточно жёстко заданных обстоятельствах исторических реалий, в создании и выборе которых не участвовал. А разум крайне ценит выбор (ведь в том его исконная сущность – анализировать и делать выводы как основу для сознательного выбора), которого в данном случае начисто лишён. Как бы впоследствии ни смог он кардинально изменить доставшиеся ему исторические условия жизни или своё место в них, старт и начальный вектор жизни человека его ratio не конструирует.
Также мы знаем о сильной ограниченности влияния нашего разума в масштабах Истории. Само изучение её заставляет постоянно искать логику, она не лежит на поверхности. Разум нехотя приходит к выводу: исторический процесс, что бы им ни двигало на самом деле, в любом случае не основан на его рациональности, не она является его первостепенной базой. Попыткой уйти от признания в таком случае служат ссылки на некий коллективный разум человечества или некий высший разум. При этом происходит ловкая подмена: такой «разум» наделяется трансцендентными чертами, он качественно отличен, а нередко и отделён от нашего. Просто разум знает: что-то вечное есть, но, к сожалению, не в нём самом.
Может показаться нонсенсом и явной натяжкой диффузия в вышеизложенном ratio и чувств. Указанные доводы являются рационально-логическими рассуждениями. Но их следствием становятся эмоции, что очень важно для философии истории. Поначалу «холодный» разум философа начинает анализировать Историю ради постижения, но естественным образом вытекающие из такого анализа выводы ставят его перед сложной развилкой. Если продолжать мыслить беспристрастно, то разуму необходимо согласиться с фатальностью, совершить условное «аутодафе». Бесстрастная логика не даёт надежды, а становится мертвящим приговором. И разум, как любая система, стремящаяся к самосохранению, может энергично пытаться изменить осознанную им предопределённость. Иначе может последовать преждевременное старение ещё только становящегося разума.
Далее им может ставиться иная цель – не беззубо-безнадёжное бесстрастное постижение объекта, а курс на его изменение. Помочь ему здесь могут лишь чувства, ведь логика в этом ракурсе, повторюсь, бессильна. Она становится лишь инструментарием, удобной в научных целях технологией достижения уже совсем иной цели. Цели, движению к которой способствует как раз всемерное отделение субъекта от объекта и создание иллюзии подчинения второго первому. Здесь философ может тешить себя необоснованными сравнениями с естествознанием, с упоением подражая ему. Он может начинать при изучении лишать Историю её самостоятельности, активной субъектности, пытаясь даже манипулировать. Как если бы он выступал в роли тургеневского Евгения Базарова, ведшего опыты на лягушках.
Так, разум, направленный на философию истории, может поддаться совсем неразумным вещам – страху, зависти и обиде на Историю. То есть негодным для объективного научного анализа мотивациям. А если разум безраздельно господствует в философии истории, стоит в ней на вершине иерархии познания, его мотив борьбы становится определяющим. Тогда вердикты выносит именно ratio, искусно прикрываясь ссылками на «обширную базу данных» иных видов познания.
Итак, разум, считаю, не только объективно неисторичен, он легко может становиться и антиисторичным, когда не согласен уступать изучаемому им объекту законную пальму первенства. В таком случае он стремится «обыграть» Историю и описать её в серьёзно искажённом, выгодном для себя свете. За примерами этого далеко ходить не нужно.
Некоторые частные манипуляции разума в философии истории.
Представлю часто встречающиеся, на мой взгляд, манипуляции разума в философии истории. Они служат попытками преодоления противоречий между ratio и Историей в пользу первого. Разум пытается последовательно бороться с сутью Истории – временем, фактом и изменением факта во времени. Он соревнуется с Историей на поле её протяжённости, движущих сил и характера, а также цели и смысла.
Во-первых, в диссонанс вступает осознание конечности собственного разума и бесконечности (в плане невозможности определить точки начала и завершения) Истории.
На преодоление этого щемящего осознания направлены огромные усилия разума по отысканию «границ Истории». Ratio прибегает в данном случае к операции анализа. Она позволяет фрагментировать Историю, разбивая её на хронологические периоды, пространственные блоки и границы, общности разного уровня и отдельные смысловые линии. При этом большое значение придаётся именно чёткой обоснованности классификаций как убедительному свидетельству конечности всех процессов. Намеренно акцентируется внимание на различиях, дабы сделать Историю более дискретной. Также указывается на то, что не существует ничего вечного. Так разум, как явление не вечное, несколько реабилитирует себя.
Г. Гегель считал, что каждый отдельный человек есть сын своего времени, а философия также есть время, постигнутое в мысли [3, с. 55]. Гегель был панлогистом, получается, что к конкретному историческому периоду привязан именно разум как доминанта познающего. Смею предположить, что из этого косвенно можно вывести признание конечного характера личного ratio. Поэтому, говоря о философии, вполне справедливо было бы уточнить, что сыном своего времени является именно рациональный философ. А иррациональный же вполне себе может являться сыном предыдущей (а может, и предстоящей?) Истории.
Не раз в истории мы видели (и видим сейчас) проявления ювеноцентризма, что легко объяснимо с позиций рациональности. Старость для разума – кошмар, обретающий с возрастом очертания реальности. Еще в Античности замечено, что раз существует старость тела, видимо, существует и старость ума. Жизнь в старости кажется совсем не той, что прежде, именно потому, что ratio и тело не на прежней высоте. Разум знает, что безвозвратно слабеть может только то, что конечно во времени. А это как раз он, наряду с телом.
Во-вторых, нас поражает временной масштаб Истории. Краткость существования индивидуального разума несравнима с её длительностью.
Главным полем борьбы для разума здесь является Время. Он прибегает к манипуляциям социальным временем, искусственно «сжимая» и «расширяя» его. Срабатывает особенность человеческого мышления, которую можно сравнить с физическим законом. Известно, что скорость света в природе очень велика, но его распространение можно задержать препятствиями. Не саму скорость уменьшить, а выиграть время. Человеческая мысль подобна такому лучу света. Мы выбираем в прошлом точку, куда направляем свою мысль. Её скорость в масштабах мозга тоже огромна, что позволяет моментально сконцентрироваться на объекте в далёком прошлом. Нет особой разницы, требуется ли достичь вчерашнего дня или эпохи неолита – в обоих случаях пройдёт секунда. Но ведь реальная История – не физический вакуум, где созданы условия вольготно разгоняться лучу света. Мы специально или невольно «забываем» ради достижения предмета о том, какие неподъёмные толщи исторический событий лежат между нами и тем объектом в прошлом (даже если речь идёт о прошлом десятилетии). И если мы начнём вспоминать хотя бы некоторые из них, заполняя неестественную лакуну, скорость продвижения резко упадёт. Когда мы осознаём, сколько всего случилось между условными точками А и Б, расстояние между ними уже не кажется малым. Потому замечание «как быстро пролетело время!» – всего лишь плод освобождения пространства для большей быстроты мысли. Иначе даже день нам не покажется мигом, что на самом деле так и есть.
«Сжимать» время позволяет мнимая пустота, лабораторный «исторический вакуум». А с его «расширением» процесс обратный. Здесь объект накачивается мелкими деталями, и мысль вязнет в них. Насыщенность событиями неминуемо мысленно раздвигает временные границы, существенно «растягивает» время. Разум использует уловку микро-хронологии. Суть её проста: отдалённое прошлое представить в максимально общих чертах, а современность – очень дробно. И дело здесь не только в особенностях памяти. Разумом намеренно создаётся иллюзия «судьбоносных» событий и эпох, по своему временному континууму сравнимых с длительностью жизни человека. А в доведённых до абсурда вариантах хронология становится просто архиподробной. И каждый из нас на протяжении своей вполне обычной по меркам Истории человеческой жизни вдруг становится «свидетелем» сразу нескольких «эпох». Вся жизнь современного человека предстаёт сплошь «эпохами», едва ли не каждый год представляется переломным, судьбоносным и великим. Это прослеживается во многих сферах жизни: торжествует постмодерн с его искусственным «вечным настоящим» донельзя растянутого социального времени.
Описанные свойства разума для него естественны, поэтому основанные на них уловки не вызывают отторжения и выглядят органично. Внедряется модель исторического развития, где тысячелетия прошлого представляются лишь скупой предысторией настоящего, в котором разум существует сегодня. Далёкое прошлое скукоживается до жалкого вступления, увеличение внимания и подробности гарантированы лишь по мере приближения к «подлинно достойному изучения» настоящему. То есть для прошлого используется искусственное сжатие, а для современности – расширение социального времени.
Такое невозможно списать просто на ускорение социального развития, на зашкаливший по мощи «бег Истории». И уж тем паче на слабую изученность отдалённого прошлого, последний аргумент в начале XXI века малопригоден. Но примерно так же, как мы, необычайными и судьбоносными свои времена считали и другие поколения. Римлянин Марк Туллий Цицерон восклицал в запале речи «о времена, о нравы!» [4, с. 292]. В.Г. Белинский отмечал, «как скоро всё движется теперь…» [5, с. 392]. Такие восклицания, радостные или горестные, – обычное дело. Философия истории полна предвестников наступления «последних времён», «закатов», «конца истории» (что две тысячи лет назад, что после Первой мировой войны, что сегодня). Разуму приятно жить непременно в уникальные и эпохальные времена, даже если они трагичны. Нам льстит наш краткий жизни век представлять эпическим, и для разума он действительно эпохален, ведь другого у него просто нет.
В результате опытов ratio со временем значимость и масштабная протяжённость Истории мысленно нивелируется до сроков, уже сравнимых с жизнью самого разума. Он начинает чувствовать себя увереннее, как карлик, вдруг уменьшивший до своих размеров великанов вокруг. История уже не предстаёт столь устрашающе-огромной, её как бы можно охватить. Это искажение – не изобретение нашего времени, но оно работает с ударным накалом.
В-третьих, необратимость изменений и движения во времени как приближения к неизбежному прекращению действия разума (хотя бы в том виде, что он имеет при жизни). При этом ratio знает, что История, ничуть не смутившись, продолжит своё движение далее.
Для ratio тягостно ощущение того, что оно имело точку отсчёта и будет иметь точку завершения. Первое говорит о вторичности, о происхождении от чего-то, из чего-то. А второе – о том, что грядёт неизбежная смена. «…И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас!»: поэтическая душа А.С. Пушкина изящно выразила аксиому того, о чём разум говорить вслух не любит [6, с. 43].
Нередко это выливается в ревностное стремление разума провозгласить своё время и себя как его выражение в точку начала или конца «подлинной» Истории. Выше говорилось о подспудном желании всех поколений жить в особенное время. Мысль стать безликим звеном, ничем не выделяющимся из сотен других, нетерпима и противна нашему разуму. Он знает, что в группе похожих долго и хорошо видны лишь первые и последние.
Провозглашение себя кардинально новым в историческом развитии (неосапиантом, идеальным обществом, «зарёй светлого будущего», «последними могиканами») как бы «обнуляет» предыдущую Историю как малозначительную и автоматически повышает до небес значение настоящего. Того самого, в котором ныне действует разум, а значит, резко повышает значение его. И значение будущего тоже, но оно отныне считается уже предсказуемым, принадлежащим разуму и формируемым им. Получаем итог, когда прошлое объявляется менее значительным, чем настоящее, а будущее – программируемым из настоящего.
Тут прослеживается то же желание уравнять Историю с собой, но уже не во временном, а в сущностном значении. Разуму очень трудно признать за прошлым право именоваться самостоятельным, вариативным и вовсе не одержимым идеей скорейшего наступления наших дней. Потому что тогда пришлось бы признать активную самостоятельную субъектность нашего прошлого, по-своему самодостаточного и не нуждающегося в нашем же настоящем. Нам сложно представить и смириться с тем, что оно тогда не было Прошлым. И что люди тех времён не были марионетками, жившим исключительно ради наступления нашего настоящего. Они жили своим Настоящим, и у них всегда был выбор. Настоящее могло быть совсем иным, наш современный разум вообще мог не возникнуть. А равнозначность тут довольно тягостна для ratio, ведь он хочет быть уникальным.
В доведённых до своего логического завершения вариантах предлагаемая разумом модель обуздания Истории фактически «останавливает» её ход. Уже говорилось, что только остановка течения времени даёт разуму надежду на бессмертие. Это невозможно в физическом смысле, но «конец истории» в самых различных версиях (хоть идеального будущего, хоть апокалиптических) всегда привлекал особое внимание и сильно манил умы. Соблазн стать финалом Истории, раз нет надежды стать её истоком, велик для разума, озадаченного краткостью своего существования. Но парадокс в том, что, стремясь остановить Время и изменение фактов в нём, разум отгоняет мысль о том, что тогда остановится и он сам.
Другим ярким проявлением мечты разума о победе над неумолимым течением стал поиск «машины времени». Фатальности необратимого движения во Времени противопоставлена древняя надежда на свободное перемещение в нём. Человек всегда желал иметь возможность оказываться в прошлом, если хотел его изменить или, наоборот, идеализировал, или в будущем, если видел в нём спасение. Такой невольный мысленный отказ от настоящего, перманентное виртуальное пребывание в ином времени в ущерб своему осуждал ещё Эпикур [7, с. 779].
Это есть желание бессмертия, преодоления своей временной конечности. «Машину времени» человеческий разум веками искал, наверное, даже упорнее, чем perpetuum mobile или «философский камень». И, что интересно, с упоением продолжает искать поныне, в отличие от двух других чудо-объектов. Современная наука не отметает такую возможность, в отличие от «вечного двигателя». Ведь для разума, даже научного, мечта о перемещении во времени – гораздо заветнее и слаще материальных благ. Ведь только победа над временем ознаменует бессмертие ratio, а вовсе не бренные выгоды.
В-четвёртых, существует проблема одновременного течения общей Истории и истории конкретного разума.
Траектория, скорость, соотношение движения первой и второй – поле тысячелетней битвы философов. Считаю, что и здесь проявляется свойство разума переносить свои представления о себе на Историю. В частности того, что он может анализировать в течение своей человеческой жизни.
Речь идёт о графических моделях исторического развития. Самые известные из них циклические, спиралевидные, линейные, синусоидные, так называемые ризомные. Какими бы они ни были, такие траектории представляют собой в той или иной степени модификации природных и социальных процессов, доступных для наблюдения на протяжении одной жизни. Мы видим циклическую смену времён года, похожих ситуаций на протяжении жизни, линейное движение от рождения до смерти, множество периодических взлётов и падений, а также непредсказуемость и ризомное переплетение судеб всех людей. И судим обо всей Истории по таким доступным нам микро-историям. Микро-историям, доступным нашему разуму, воспринимающему лишь то, что соразмерно его недолгой жизни.
Наглядным проявлением такого калькирования, проекции разумом своей собственной истории на всеобщую являются и цивилизационные модели Истории. Они окрепли и заявили о себе как о передовых именно по мере наступления рационализма. И отвечают в противостоянии разума с Историей сразу нескольким задачам.
Во-первых, служат наглядным продолжением «сжатия» исторического времени и его фрагментации для устранения необъятности. Во-вторых, уподобляют Историю жизни доступных для нашего изучения организмов. Она «приземляется» из области трансцендентного и ускользающего до некоего подобия естествознания, в котором разум чувствует себя гораздо увереннее. В-третьих, такая История оказывается как бы подвластна человеку. Ведь он способен значительно влиять на свою траекторию жизни, а история государств и народов оказывается мега-жизнью множества людей, «коллективного Я». В-четвёртых, такая История становится гораздо более предсказуемой. Наконец, в-пятых, перечисленное приводит к тому, что история единичного разума полноправно вплетается в общую Историю, и противоречие общей Истории и истории разума, идущее от их раздельности, внешне нивелируется. Причём нивелируется на условиях именно разума, по его кальке. Большее подгоняется под меньшее, микро-история становится эталоном и ключом к анализу общей. Всеобщая история предстаёт многократно увеличенной копией индивидуальной.
Такие модельные обобщения и схемы легко воспринимаются, входят в резонанс с нашим разумом, они хороши для трансляции и притягательны. Но это снова порождение разума исключительно к своему удобству. Он как бы приватизирует Историю под предлогом необходимости её схематизации для доходчивого и позитивного объяснения себе и другим. Хотя это не более чем продукт внешнего наблюдения за собой и себе подобными. И нет никакой уверенности, что суть Истории соответствует таким ограниченным матрицам. Зато внешне всё логично и красиво.
Библиографический список
- Гумилёв Л.Н. От Руси до России: Очерки этнической истории. СПб.: Кристалл, 2002. 352 с.
- Платон. Пир // Мыслители Греции. От мифа к логике. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. 832 с.
- Гегель Г. Философия права. Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. 524 с.
- Цицерон М.Т. Речи в 2-х томах. Пер. с лат. Т. 1: годы 81-63 до н. э. / Подгот. В.О. Горенштейн и М.Е. Грабарь-Пассек. М.: АН СССР, 1962. 443 с.
- Белинский В.Г. Руководство к всеобщей истории. Сочинение Фридриха Лоренца // Собр. соч. в 9-ти томах. Т. 4. М.: Художественная литература, 1979. 654 с.
- Пушкин А.С. Евгений Онегин. М.: Айрис-Пресс, 2005. 400 с.
- Эпикур. Письма и фрагменты // Мыслители Греции. От мифа к логике. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. 832 с.