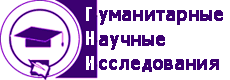Вспышкой научного и общекультурного интереса к феномену сознания были ознаменованы еще конец ХIX- начало ХХ веков – эпоха, генерировавшая широкие контексты естественнонаучных, философских, религиозно-мистических и художественно-эстетических исканий в этой области. В сфере научного познания яркие страницы подобных исследований представлены, к примеру, трудами А. Бергсона; религиозно-философские и оккультно-мистические поиски наиболее отчетливое и концептуально-завершенное выражение нашли в сочинениях Шри Ауробиндо, Р. Штайнера, Е. и Н. Рерихов, П. Успенского; в эстетике и философии искусства значительные открытия были сделаны русскими философами, художниками и писателями рубежа веков. В центре этих исканий – проблема человека и человеческого сознания в их соотнесенности с логикой саморазвития бытия и мироздания в целом. Современная научно-философская мысль все больше приходит к пониманию того, что история человечества и история его культуры (в обозримых нынешней наукой пределах) есть история становления развития человеческого сознания во всем многообразии его форм. Очевидно, что в рамках такого подхода понятие «развитие сознания» перестает быть только исторической или психологической категорией и приобретает статус категории онтологической, т.е., первопричинной, законопорождающей: именно законы психогенеза – обозначим процесс развития сознания этим термином – определяют законы исторические, а не наоборот. Убедительным основанием для развития новых подходов к исследованию онтологии сознания могут служить работы многих мыслителей XX века, таких как К. Э. Циолковский (и русский космизм в целом), В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден, Л.Н. Гумилев, В.П. Казначеев и др.
Мы не ставим здесь цели обстоятельного и развернутого теоретического описания феномена сознания – решение этой сложной и дискуссионной проблемы во всей ее масштабности не входит в наши задачи. Для нас сейчас важно очертить основные смысловые контуры содержания, которое мы подразумеваем, оперируя понятием «сознание», до сих пор лишенным завершенных и точных дефиниций. Говоря о сознании, мы имеем в виду это понятие в широком смысле слова, подразумевая, что оно относится не только к собственно ментальным планам человеческой психики, но и ко всей области психического отражения, охватывая чувственно-эмоциональные, подсознательные, интуитивные и пр. формы сознавания реальности. Употребление терминов «развитие» и «эволюция» предполагает в нашем контексте их разграничение. С понятием «эволюция» связывается представление о непрерывном линейном совершенствовании, последовательном улучшении качества чего-либо – в данном случае, сознания, начинающего свой путь в условной точке «А» и движущегося или к некоей точке «В», или к некоей абстрактной бесконечности (цели эти столь же условны – до тех пор, пока в реальном смысловом отношении ни с чем не идентифицированы). Термином «развитие» мы обозначили иной семантический комплекс, описывающий иную топологию движения. Значение этого слова в нашем контексте предполагает не просто линейное движение сознания как некоторой изначальной элементарной данности к обогащению своего содержания путем расширения контактов с внешним миром, а собственное качественное его самораскрытие – рас-кручивание, раз-ворачивание собственных внутренних потенций, разматывание клубка своих возможностей. Момент превращения свернутой спирали в спираль развернутую может служить своеобразным паттерном этого процесса.
Сознание человека изначально есть совершенное, полноценное и самодостаточное, однако все это дано ему in potencia – настолько, насколько оно реализовало заложенную в нем способность к самоосознанию, то есть, к актуализации собственных возможностей – многоаспектных и онтологически укорененных. Таким образом, развитие и совершенствование сознания предполагает актуализацию заложенных в нем изначально «внутренних возможностей» (В. А. Зарецкий), инкарнацию ноуменально заданных человеку первосмыслов и первообразов в феноменально данном ему бытии. Более того, сознание по своей природе и есть чистая возможность, potencia как таковая, поэтому любой акт о-сознания есть актуализация возможного в действительном. Можно сказать, что для сознания, с точки зрения его внутренней природы, все возможное – действительно, все действительное – возможно.
Подобный подход мы встречаем и в работах выдающегося философа ХХ века М. К. Мамардашвили. Напомним одно из определений, данных исследователем: «сознание есть возможность большего сознания»[1] [Мамардашвили, 1992, с. 84]. Мы вынуждены не согласиться с другой его формулировкой (цитируемой здесь по статье Ю. А. Шрейдера): «сознание есть акт осознания» [Шрейдер, 1988, с. 50]. Определение было бы верным, если бы мы понимали сознание в тех пределах, в которых ограничивает его содержание европейская философская традиция Нового времени, противопоставляющая человека как носителя сознания всему, что его лишено. Однако существуют и иные пути интерпретации термина «сознание», значительно расширяющие его смысл и основывающиеся на дифференциации форм и способов сознавания реальности в зависимости от степени «сознательности» субъекта: известно, что в структуре человеческой психики выделяются в качестве особых сфер бессознательное, подсознание, сознание, сверхсознание. С этой точки зрения в рамках понятия «сознание» мы можем говорить о разных его градациях как о различных энерго-информационных модусах бытия, присущих разным субъектам сознания; в этом смысле можно говорить и о «сознании» объектов, называемых «неодушевленными» и традиционно считающихся лишенными субъектности: «сознание стола» или минерала тоже есть некая элементарная форма «сознавания» реальности. В человеческом существе эти ступени сложности сознавания действительности представлены одновременно; «акт осознания» в этой понятийно-смысловой парадигме будет пониматься как момент прорыва, перехода, скачка от одного уровня сознавания к другому, более сложному – имеющему большее поле возможностей. Само же сознание и есть поле возможностей энерго-информационного обмена субъекта сознания с миром, а главное – возможность расширения этих возможностей в актах осознания.
Итак, сознание есть возможность осознания. Способность к осознанию часто идентифицируется со способностью к рефлексии[2] (и наоборот); на самом деле, рефлексия – один из механизмов осознания, предполагающий не просто отражение реальности в сознании человека, но «отражение отражения», «понимание понимания», «сознание о сознании». Не только в речевом обиходе, но нередко и в научном дискурсе «рефлексия» и «осознание» становятся понятиями взаимозаменяемыми, что вполне объяснимо: рефлексия как наиболее доступная и свойственная современному типу ментальности форма осознания отождествляется с самим актом осознания. Между тем, он может осуществляться и иными путями, например, через катарсис, эмпатию, инициацию, покаяние – как особые акты метанойи – «умоперемены», качественно трансформирующие природу и содержание сознания; он может быть осуществлен как «инсайт», как «озарение», «просветление», «откровение», не имеющие в качестве своей причины впереди себя никакой выраженной цепочки рефлексийных актов. По-видимому, в истории развития сознания рефлексия – один из наиболее поздних (не только в хронологическом, но в смысловом плане) механизмов этого развития. Об этом свидетельствует и тот факт, что более всего пронизано внутренней рефлексийностью (энергиями рефлексии) пространство самой молодой из современных культур – культуры европейской; не случайно поэтому так отличается аксиологическая школа европейского сознания от ценностных доминант в культурах Китая, Японии, Индии и вообще более древних культур Востока в целом. Еще одним подтверждением того, что рефлексия как этап в становлении сознания (имеется в виду и индивидуального, и коллективного, онтогенез и филогенез) – явление сравнительно позднее, служит то, что осознание самого феномена рефлексии («рефлексия рефлексии») родилось в ноосфере (ментальном пространстве) европейской цивилизации тоже не так давно и насчитывает не многим более двух столетий, хотя корни и источники самой рефлексии уходят в недра античности.
Художественное сознание, воплощаемое в искусстве, в отличие от научного, повседневно-бытового и т.д., оказывается в наибольшей степени гомоморфно природе, структуре, генезису человеческого сознания как такового. Во-первых, модальность художественного сознания, определяющая отношения между сферами возможного и действительного, идентична модальной природе человеческого сознания. Еще Аристотель, дифференцируя искусство и науку с точки зрения их внутренней сущности, писал, что наука («история») говорит о действительном, а поэзия (искусство) о возможном; смысл искусства, по Аристотелю, в обнаружении (= осознании) диалектических отношений возможного и действительного [Аристотель, 1957, с. 67-70].
Во-вторых, художественное сознание репрезентативно и в отношении основных закономерностей генезиса человеческого сознания в целом, о которых уже шла выше речь. Прогресс в искусстве – вещь чрезвычайно сомнительная, если понимать его в смысле эволюции, и вполне закономерная в смысле его развития. Так, до сих пор, пожалуй, ни одному художнику не удалось передать энергию движения, запечатленную в наскальных рисунках. Магическая сила этих рисунков есть энергия запечатлевшего их духа – совершенно иного, отличного от современного, типа сознания, не разъятого и не отягощенного рефлексией. Архаическая наскальная живопись мобилизовала и реализовала одни возможности человеческого сознания, раскрытые к творчеству, человеческого сознания, искусство иных времен открывает и реализует иные интенциональные импульсы, не всегда перекрывающие творческий потенциал предшествующих форм.
В-третьих, если говорить не только о художественном сознании вообще, но о той его форме, которая порождается и живет в искусстве слова, мы найдем ее гомоморфность и самой многоуровневой структуре сознания. Уровню бессознательного в художественном тексте соответствует тот план смыслопорождения, который связан с семиотикой, поэтикой и эстетикой самых первичных элементов и структур текста. На этом уровне, к примеру, живут процессы изначальной непреднамеренной семантизации и эстетизации звука, графики, актуализации первичного семантического ядра слова и т.п., а также весь тот жизненный, словесный, эстетический материал, который воспринимается и оценивается «по умолчанию» как нечто первично заданное и универсальное. Уровню подсознания можно считать эквивалентным план подтекста, исследованиями которого всегда активно занималось литературоведение. Собственно текст с его возможностями образотворчества и смыслопорождения оказывается равномасштабным уровню сознания; сверхсознание же представлено в экзегетике текста метатекстуальным планом его понимания, способным к интеграции всех уровней в единое целое.
Вернемся к мысли о нелинейном характере развития сознания. Еще в архаическом мифе задана уже вся полнота смыслов, доступных сознанию человека, и вся последующая история искусства есть осознание, т.е. обнаружение, разворачивание, переживание, моделирование либо обыгрывание этих смыслов в процессах культурно-исторического бытия и его становления. Художественное сознание рефлексийно по своей природе (структурно, генетически, функционально), ибо именно рефлексия и порождаемые ею законы мышления являются одним из главных механизмов акта осознания как в живой реальности, так и в искусстве.
Искусство занимается о-сознанием, т.е. актуализацией, тех первосмыслов, которые мифологическому мироощущению даны имманентно и бессознательно; оно есть образная экспликация уже существующих первообразов. Однако если эти первообразы-архетипы существуют в «нульмерном», «свернутом» пространстве замкнутого мифологического универсума, то их последующие художественные инкарнации требуют многомерного пространства, причем количество измерений этого вновь рожденного (из мифа) континуума стремится приблизиться к тому реальному пространственно-временному миру, который дан человеку в его бытии. Опыт исследования рефлексийных структур, генерирующих процессы смыслопорождения и образотворчества в системе художественного текста (на примере поэтик Чехова, Достоевского, Пастернака и др.) приводит к выводу, что в четырехмерном пространстве-времени четвертый порядок рефлексии полностью исчерпывает ее возможности. Мифологическое сознание не знает рефлексии. Что это значит? В мифологическом мировосприятии бытие и сознание о бытии, реальность и ее отражение «в головах людей», мир и его единственно-возможная образно-гносеологическая модель абсолютно тождественны и полностью исчерпываются друг другом, можно сказать, что в замкнутом «нуль-мерном» смысловом континууме мифа возможное и действительное исчерпывают друг друга без каких-либо зазоров. В монистическом универсуме мифа и в самом деле «все действительное возможно, все возможное действительно». Не ошибемся, если скажем, что мифологическое сознание очень уверено в себе и ничему не удивляется, поскольку в рамках собственной модели мира всегда и всему может найти объяснение – уже потому, что для мифа не только нет ничего за пределами этой модели, но, главное, нет представления об этих пределах и собственной предельности, ограниченности; поэтому неизбежно миф все принимает «феноменологически», как данность, сам факт существования которой уже и есть исчерпывающее объяснение этого существования. (Этиологические мифы, как правило, и не ставят себе реально-гносеологических целей, они откровенно фантазийны и их действительная задача – не столько объяснить происхождение объекта, или причину, природу явления, сколько утвердить этой условной этиологией его «статус-кво» в бытии). Мифологическая модель мира всегда воспринимается как модель действующая, равномасштабная самому миру и адекватно функционирующая в рамках эмпирического опыта носителей мифологического сознания.
Мифологическое сознание не знает внутреннего разделения с самим собой, не знает недоверия к себе, в него не закрадываются сомнения в том, что его «зеркало» может быть кривым, или в том, что оно является не единственно возможным зеркалом в этом мире, а одним из множества зеркал, отражающих мир под разными углами. Собственно говоря, и о самом существовании «зеркала» мифологическое сознание не знает; не только зеркала, но даже и «стекла», «призмы», вообще никакой преграды нет между его взором и миром. Оно существует в мире как эмбрион в чреве матери, связанный с ней пуповиной, живущий с ней едином ритме и воспринимающий свои ощущения от окружающей реальности как единственно возможное и действительное ее состояние. Носитель мифологического сознания, конечно, не отождествляет себя, как индивид, с миром, он знает дистанцию между реальностью и своим «я»; но для него тождественны, не имеют никаких зазоров его представления о реальности и реальность как она есть. Он не ведает о своей субъективности, хотя знает о своей субъектности. Мир для него такой же субъект; дистанция между «я» и миром для него – дистанция между субъектами, способными преодолеть эту дистанцию, поскольку они одноприродны и существуют в одноприродном им универсуме; киплинговская формула «мы с тобой одной крови – ты и я» – достаточно точная модель этих отношений. Даже если этот субъект уничтожает другого (убивает врага в битве, или животное на охоте), этим актом он не столько разрывает отношения с ним, сколько еще больше утверждает их неразрывность: так, например, поедание добытого животного воспринимается как акт приобщения этих двух субъектов друг к другу, подтверждает их внутреннюю сопричастность и одноприродность (единородность). Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения исследователей – антропологов, этнографов, мифологов, культурологов. Именно это сознание-ощущение внутреннего всеединства лежит в основе логики метафор – базовой, по мысли многих исследователей, для мифологического типа культуры. (См., например, об этом: [Фрейденберг, 1997]; [Макуренкова, 2004]).
В мифе нет объективирующей дистанции, существующей между субъектом и объектом, поскольку нет объектов как таковых, это мир тотальной субъектности; возникновение объекта, создающего непреодолимую дистанцию между явлениями реальности вследствии своей смысловой полярности по отношению к субъектности бытия, невозможно в гомоморфной монистической вселенной мифа.
Границы и дистанции по отношению к Другому (миру, человеку, даже божеству) для мифологического сознания существуют лишь как границы и дистанции пространственные и временные, но не смысловые, а потому принципиально преодолимы («другой», даже если он твой враг, – одной с тобой природы); границы и дистанции в отношении к себе для него отсутствуют вовсе. Отсутствие границ и дистанций означает отсутствие рефлексии в мифологическом сознании: как рефлексии, направленной на свое восприятие и отражение мира (свои модели мира), так и рефлексии, направленной внутрь себя, на восприятие себя самого как особой смысловой инстанции, позволяющей различать в себе свое «я» и свое отражающее зеркало как инструментарий, данный этому «я».
Каким образом в мифологическом сознании – замкнутом (что, конечно, не равно изолированности) и целостном, неделимом, самотождественном и самодостаточном, однородном и непрерывно-континуальном – возникает линия «надрыва», проходящего через точку трагического либо комического недоумения по отношению к миру и самому себе – вопрос, на который человеческая культура пытается ответить всей своей историей, и художественной культуре здесь принадлежит, пожалуй, первейшая роль, оспаривать которую может лишь философия (впрочем, по словам Ф.М. Достоевского «философия есть та же поэзия, только высший градус ее!»).
Факт разрушения целостности первичного мифологического сознания самим мифом метафорически объяснен в истории грехопадения, наиболее известной в ее библейском варианте, хотя сюжет этот существует и в других версиях. Большинство попыток деметафоризации и демифологизации этого сюжета, богословских и философских его толкований не всегда можно назвать особенно успешными; как правило, этот миф поддается наиболее убедительной экспликации именно на тех путях, по которым идет искусство, воплощая в своих образах и сюжетах доселе не открывшие своей сокровенной сути архетипы. Однако даже самые гениальные художники указывают на феномен демифологизации сознания, на факт разрушения его первичной целостности, приводящего либо к распаду, либо к рождению новой целостности, но не берутся объяснять глубинных причин и механизмов этих явлений и тем более, не дают возможности подвести эти факты под некие общие закономерности. Напротив, всякий раз обнаруживается индивидуальная непредсказуемость каждого нового акта «рождения сознания» или несостоявшегося его рождения.
Один из фундаментальных и глубинно-значимых смыслов, открываемых при этом искусством, состоит в том, что рождение нового сознания в личности взаимообусловлено с актуализацией внутренних возможностей личности. Художественный образ обладает способностью эксплицировать имплицитно существующие внутренние возможности отражаемого объекта; он, по определению В.А. Зарецкого, моделирует индивидуальное или коллективное сознание, состояние личности или состояние мира одновременно в их данности, и в их неисчерпаемой потенциальности [Зарецкий, 1999, с. 89]. Поэтому искусство, даже не объясняя конкретных «фактологических» причин утраты человеком первозданной целостности, оказывается способным открыть ему пути нового самоопределения в бытии: обрести вновь свою внутреннюю цельность, но уже не имманентно-бессознательно, как в мифе, а пройдя сквозь точку осознанного выбора в бесконечном поле возможностей.
Мифологическое сознание, так же как и художественное, ориентировано преимущественно на законы образного мышления; именно образ является здесь первичным элементом. Однако это мышление еще дожанровое, или протожанровое, и рождение жанрового сознания знаменует собой начало деконструкции мифологического сознания; и это понятно: мифологическая модель мира универсальна и едина в пространстве определенной этнокультуры, в то время как каждый жанр предполагает свою собственную концепцию мирообраза. Миф по отношению к образу есть гиперсистема; возможности смыслопорождения мифа как макроструктуры и образа как микроструктуры энергийно и субстанциально тождественны; логоически они эквиваленты, в то же время образ и миф сравнимы друг с другом как микроэйдос и макроэйдос, поэтому, к примеру, архетипический образ Мирового древа может быть приравнен к мифологеме Мирового древа, образ грехопадения – к мифологеме грехопадения и т.д.
Постмифологическое, художественное, сознание порождает жанровые эйдосы, существующие не просто в качестве гиперструктур, организующих сюжетно-образные элементы текста в целостные системы, но в качестве образно-смысловых моделей, обладающих определенным рефлексийно-семантическим избытком, логоической дистанцией по отношению к своим первоэлементам. Жанр – это не только гиперструктура, но и метаструктура, которая наделена способностью к «осознанию» и интерпретации первичных образно-смысловых парадигм мифа. Поэтому жанр, так же, как и миф, является макроэйдосом по отношению к образу, и одновременно – метаэйдосом по отношению к образу и мифу. Действительно, уже упоминавшийся выше образ грехопадения (=мифу грехопадения) будет по-разному эксплицирован в разных жанровых контекстах; в зависимости от характера его аксиологической «транскрипции» он может трансформироваться в сюжеты многих жанров «минорной гаммы»: трагедии, элегии, сентиментальной повести, баллады, плача, духовного стиха, даже мелодрамы (к примеру, мелодраматические обертоны приобретает этот сюжетный архетип в повести А. Дружинина «Полинька Сакс»); жанры «мажорной гаммы» также могут обращаться к интерпретации этой мифологемы (здесь уместно вспомнить такие жанровые формы как бурлеск, травестия, пародия, мениппея и другие карнавализованные жанры); в равной мере к этому архетипическому образу и сюжету обращаются «нейтральные» жанры, либо дистанцирующие эмоциональное и гносеологическое содержание образа и текста (басня, притча, фабулат, биография), либо предполагающие их интеграцию и высший синтез, преодолевающий дистанцию между «минором» и «мажором», эмоционально-чувственным и интеллектуально-гносеологическим началом сознания: древний эпос, мистерия, сказание, легенда, сказка, роман, житие, исповедь и др.).
Итак, жанровое мышление – это уже рефлексийное мышление, предполагающее смысловую дистанцию между реальностью и ее отражением в миро-моделирующих законах жанра. Каким образом и по каким причинам совершается «пробуждение от мифа» и приходит «понимание того, что искусство – это миф, в котором уже не живут, – его рассматривают, осмысляют, осознают» [Ахутин, 1990, с. 7] – вопрос, на который мы вряд ли сможем сейчас ответить. Однако мы можем отчетливо видеть, что сознание при этом проходит некую точку бифуркации, равную акту инициации и знаменующую переход от состояния «in potencia» в состояние актуализированное, от «сна» к непрерывно-становящемуся бодрствованию. Подобная актуализация-инициация сознания является для искусства: 1) его интенционально выраженной функцией и целью по отношению к адресату; 2) предметом и объектом изображения, художественного исследования, моделирования; в то же время, момент или импульс актуализации сознания из возможного в действительное есть выражение самой субстанциально-энергийной сущности художественного образа и сознания как таковых, т.е. в-третьих, процесс актуализации сознания есть также первопричина, первоисточник и материал образотворчества и художественного смыслопорождения как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте. Иначе говоря, по своей природе художественное сознание всегда есть о-сознание; оно исследует, познает, моделирует процессы осознания; оно инициирует и генерирует акты осознания; оно порождается актами осознания.
Не только жанровая, но и стилевая, и образная системы в художественном тексте возникают и живут в условиях взаиморефлексии, взаимоотражения их элементов. В таких же отношениях существуют в произведении сюжет и фабула. Сюжет есть не что иное, как осознание и осмысление фабулы, художественно оформленная рефлексия по поводу фабулы, и является, следовательно, метауровневой структурой относительно нее. Подобное понимание логически следует из того определения сюжета, которое, на наш взгляд, остается, одним из наиболее корректных и точных на сегодняшний день: «Сюжет – динамический срез текста (равнопротяженный ему), учитывающий движение мысли автора-творца как на уровне героев, так и на уровне зафиксированного в произведении авторского сознания вне геройного опосредования» [Егоров и др., 1978, с. 14]. Согласно этому определению, сюжет составляет развитие событий, изображаемых в произведении, совместно с развитием авторского взгляда на них; совершенно очевидно, что сюжет здесь определяется как осмысление, осознание событий фабулы. Добавим, однако, что и события фабулы отбираются художником, а значит изначально рефлексийно ориентированы на возможности сюжетопорождения и обладают первичной, элементарной степенью рефлексийности по отношению к «сырой» эмпирической действительности. Мы намеренно здесь не углубляемся в вопрос о соотношении «эмпирических» событий, сюжета-архетипа, фабулы и актуализированного сюжета произведения с точки зрения рефлексийных взаимоотношений между ними, поскольку парадигма этих взаимоотражений достаточно легко может быть реконструирована через основные положения, излагаемые в цитируемой статье.
Итак, искусство взаимосвязано с рефлексийным становлением сознания двояко и обоюдонаправленно: искусство является одним из механизмов этого становления, в то же время, рефлексия есть один из главных принципов и механизмов образотворчества и смыслопорождения в искусстве, то есть становления-развития самого искусства. Это становится особенно ясно, если учесть, сколь значимы в современной эстетике и культурологии разнообразные «постбахтинские» концепции, описывающие и объясняющие диалогическую природу искусства, художественного сознания и культуры в целом: диалогизм в предлагаемой здесь исследовательской системе координат есть одна из важнейших форм самореализации рефлексийного типа сознания.
[1] Здесь и в дальнейшем: курсив – выделено мной, разрядка – авторами цитируемых работ.
[2] О рефлексии и путях ее понимания в современной научной мысли см., н-р: [Лефевр, 1990, 25-32]; [Шрейдер, 1990, 42-50]; [Розов, 1990, 32-41]; [Мусхелишвили, Шрейдер, 1989], а также работы, представленные в электронном научном журнале «Hermeneutics in Russia».
Библиографический список
- Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 303с.
- Шрейдер Ю. А. В поисках сознания // «Знание – сила». 1988. №11. С.50-54.
- Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души // Вопросы философии. 1990. №7. С. 25-32.
- Шрейдер Ю. А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания // Вопросы философии. 1990. №7. С. 42-50.
- Розов М. А. От зерен фасоли к зернам истины // Вопросы философии. 1990. №7. С. 32-41.
- Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Притча как средство инициации живого знания // Философские науки. 1989. №9. С.101-104.
- Аристотель. Об искусстве поэзии / Пер. с др.-гр. В. Г. Аппельрота; ред. и коммент. Ф. А. Петровского. М.: ГИХЛ, 1957. 184с.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448с.
- Макуренкова С. А. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды. М.: Логос-Гнозис, 2004. 320с.
- Зарецкий В. А. Народные исторические предания в творчестве Н. В. Гоголя: История и биографии. Екатеринбург-Стерлитамак: УГПУ-СГПИ, 1999. 460с.
- Ахутин А. В. Открытие сознания (древнегреческая трагедия) // Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры / Отв. ред. А.Я. Гуревич. М.: Наука, 1990. С. 5-42.
- Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М., Таборисская Е. М., Штейнгольд А. М. Сюжет и фабула // Вопросы сюжетосложения. Вып. 5. Рига: «Звайзгне», 1978. С.11-22.