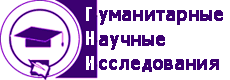Зарождение позитивистской социологии в России можно датировать концом 1860-х гг. «Идея о необходимости новой науки, которая должна изучать общественные явления с целью открытия естественных законов этих явлений по образцу наук, изучающих природу, – пишет один из первых историков социологии в России Н.И.Кареев, – стала распространяться у нас только в конце 60-х гг. прошлого века. Тогда же вошло в употребление и имя этой науки – «социология», данное ее инициатором Огюстом Коном, основоположником позитивной философии»[1].
Позитивистская социология на Западе возникла в тесной связи с утопическим мышлением, с напряженными поисками проектов преобразования общества. И именно неудачи преобразовательных попыток заставили потенциальных социальных инженеров взглянуть на общество с точки зрения выяснения законов «сопротивления материала».
Еще будучи личным секретарем Анри де Сен-Симона, О.Конт участвовал вместе с ним в 1822 г. в составлении «Плана научных работ, необходимых для реорганизации общества», в котором политика провозглашалась социальной физикой. Но вскоре Конт порвал с Сен-Симоном, отказался от конструирования социальных утопий и занялся созданием науки социологии, цель которой – фиксирование естественных законов общественного развития[2]. Среди наиболее впечатляющих идей О.Конта следует назвать, во-первых, его закон трех стадий в умственном развитии человечества, согласно которому человечество, пройдя теологическую и метафизическую стадии, достигает стадии позитивного состояния ума, выражающегося в научном мышлении. Объявив преходящими и значит устарелыми попытки искать за наблюдаемыми фактами теологические и метафизические сущности, О.Конт как бы освободил науку и здравый смысл от комплекса неполноценности перед освященной традицией авторитетов теологии и метафизики. Позитивная философия выдвинута им как задача систематизации того, что есть «научного в науках». Само слово «позитивный» в устах О.Конта противополагало реальное химерическому, полезное бесполезному, достоверное сомнительному, точное смутному, созидающее и организовывающее разрушительному и отрицательному[3]. Вторая важная идея – это контовская классификация, устанавливающая иерархию наук в порядке убывания общности и возрастания сложности. Этот ряд начинается с математики и через астрономию, физику, химию и биологию завершается социологией, которая, подчиняясь законам предшествующих наук, призвана была открыть еще и свои специфические законы, отличающиеся от всех остальных, но также входящие в разряд естественных законов. Третьей впечатляющей идеей явился провозглашенный Контом в его работе «Система позитивной политики» (1851-1854 гг.) так называемый «субъективный метод», с помощью которого, согласно Конту, человек, исходя из глубинных сердечных влечений, приходит к «истинной морали» и позитивной религии, но который в руках русских социологов, таких как П.Л.Лавров и Н.К.Михайловский, сделался орудием познания и преобразования общества.
В России особенно благоприятная ситуация для усвоения и развития идей позитивистской социологии сложилась во второй половине 1860-х гг., когда вызванная поражением России в Крымской войне и концом николаевского режима мощная волна социально-реформаторских настроений, сопровождавшаяся глубокими идеологическими сдвигами (подрывом авторитета церкви и метафизики, эмансипацией индивида от власти традиций и рутины, возникновением почти мистической веры в науку как панацею от всех социальных болезней), столкнулась с реакцией, ускоренной выстрелом Каракозова в 1866 г.
Но проникновение идей Конта в Россию началось значительно раньше. Первый познакомил с ними русского читателя В.Н.Майков (1823-1847), напечатавший в 1845 г. в «Финском вестнике» статью «Общественные науки в России», в которой индивидуалистическому подходу английской политической экономии противопоставил органический характер французской мысли и высказал по поводу общественной науки ряд мыслей в духе О.Конта. В 1860-е же годы был переведен на русский язык уже целый ряд книг либо несущих на себе влияние позитивистских подходов, либо излагающих идеи позитивистской социологии[4].
Первый в России очерк социологии как особой науки был написан одним из виднейших представителей просветительской идеологии, членом руководящего ядра подпольной организации «Земля и Воля» Н.А.Серно-Соловьевичем (1834-1866). Очерк этот под названием «Не требует ли нынешнее состояние знания новой науки?» появился в январском номере журнала «Русское слово» за 1865 г. В этой статье «новая наука» уже названа социологией и поставлена та проблема, которая вскоре станет одной из центральных проблем так называемой «Субъективной социологии», а именно проблема соотношения науки и идеологии.
Знание, пишет автор, великое благо, но только тогда, когда оно соединено с «совокупной деятельностью всех прогрессивных элементов, которые составляют современную цивилизацию». Абстрактная философия в руках обскурантов была величайшим орудием угнетения ума. Отвлеченное знание хуже всякого незнания. «В наше время, – настаивает он, – наступает необходимость ликвидировать более половины недвижимых имуществ человеческого ума и заменить их движимыми и живыми приобретениями». Для того, чтобы разобраться в умственном хозяйстве, отделить знание полезное от знания вредного и направить усилия ума только на добывание знания полезного человеческому благосостоянию, необходима новая общественная наука. Эта новая наука призвана, по мнению автора, управлять не только другими науками, но и ходом мировых событий. Сама эта новая наука должна заимствовать у естествознания научный метод, но сверх того должна уметь каким-то образом держать руку на пульсе жизни, чтобы чутко реагировать на запросы жизни и указывать другим наукам направление их развития. «Если естествознание, – пишет он, – ограничится одними научными выводами, не имея в виду общественных вопросов, – оно попадет в ту же филистерскую колею, в какую попала и отвлеченная философия. Вот почему, считает автор, между общественной наукой и естествознанием должен быть заключен союз. Т.е общественная наука может позаимствовать у естествознания метод и, в свою очередь, указать естествознанию направление для приложения усилий».
Как же добываются знания об общественных вопросах и «превосходных стремлениях»? Источники здесь оказываются самые разнообразные. «Бесспорно, пишет Н.А. Серно-Соловьевич, – каждая из современных наук должна будет доставить данные для социологии. Но в ней все эти разрозненные части получат вид целого общественного организма. Говоря иносказательно, социолог даст им душу, вдохнет в них гений… Он оживит цифры, раскрыв их действительный смысл, рассказав их тайную, неотразимую и ужасную силу, приподняв … покров, скрывающий песчинки наслаждений и горы страданий и мук… Но несравненно большую массу материала доставят ему непосредственные наблюдения над общественной жизнью, свои и чужие»[5].
Как видим основная проблематика, подлежащая ведению новой науки, это проблематика той научной дисциплины, которая позднее получила наименование социологии знания. Н.А.Серно-Соловьевич сетует, что громадная масса социологического знания рассеяна в публицистике и беллетристике и полагает, что это приводит к слишком большой растрате сил. И позднее многие социологи будут рассматривать «журнальную социологию» как нечто преходящее и как имеющую право на существование, лишь пока не сформировалась наука социология. «Субъективная социология» затратит немало усилий на то, чтобы чуткость и страсть социального критика соединить со строгой научностью естествоиспытателя и при этом не утратить специфики социального знания и сохранить единство наук.
* * *
Титула основоположника русской социологии удостоился Петр Лаврович Лавров (1823-1900). «П.Л.Лавров, – пишет Н.И.Кареев, – может быть назван первым русским социологом, основоположником у нас социологии»[6]. Мировоззрение П.Л.Лаврова нельзя безоговорочно характеризовать как позитивистское, ибо оно сложилось у него задолго до знакомства с позитивизмом, главным образом под влиянием левого гегельянства, но его социологические взгляды формировались под значительным воздействием идей О.Конта и его последователей, поэтому рассмотрение их в контексте истории позитивистской социологии в России вполне правомерно. «У Конта его (Лаврова. – А.С.) привлекли к себе отрицательное отношение к метафизике, высокая оценка научного метода естественных наук, стремление сблизить гуманитарные науки с естествознанием, ввести в изучение дел человеческих идею законосообразности всего совершающегося в мире и внести во всю область наших положительных знаний единство и цельность»[7]. Вместе с тем, высоко оценивая идеи контовского позитивизма, Лавров самым ценным считал заложенный в нем импульс к саморазвитию. Всякую же попытку позитивизма замкнуться в рамках какой-то определенной философской системы он считал противоречащей самим основам позитивизма, ибо «его особенность заключается именно в отрицании возможности философской системы»[8]. Позитивизм, по мнению Лаврова, не философия, а постановка вопросов для философии. «О позитивизме можно сказать: это наше время, схваченное в вопросе»[9].
Оказали влияние на социологические взгляды Лаврова также эволюционные идеи Дарвина и Спенсера, хотя он резко критически относился к любым попыткам механического перенесения законов развития органической природы на социальные явления. Интерес к вопросам эволюции коренился у Лаврова в том, что до того, как заняться проблемами социологии, он был поглощен проблемами исторического процесса и исторического знания. Как справедливо отмечает Н.И.Кареев, «к проблеме социологии он (Лавров. – А.С.) подошел со стороны истории, и одной из первых задач его здесь было произвести размежевание между социологией и историей»[10]. Отсюда часто отмечаемый историзм социологических взглядов Лаврова и концентрация его внимания не столько на вопросах социальной статики, сколько на вопросах социальной динамики.
Историк, по Лаврову, имеет дело с неповторяющимися общественными явлениями. Его интересует, какую комбинацию элементов экономических, идеологических и прочих представляет данная эпоха и как эта комбинация элементов перешла в дальнейшем в другую комбинацию, составившую другую эпоху. Социолог же выступает на авансцену тогда, когда выявляются повторяющиеся общественные явления, которые с неизбежностью вновь возникли бы, если бы вновь создались подобные же условия.
Лавров, например, утверждает, что смена общественных форм происходит через борьбу, которая всегда проходит три стадии. Сначала появляются единичные мученики, жертвующие собой ради нового более справедливого общества. Их пример воодушевляет тысячи героев, которые также гибнут. Их гибель совершает переворот в сознании многих тысяч, которые уже не желают безрассудно жертвовать жизнью и наступает пора расчетливой, неуклонной и организованной деятельности, которая рано или поздно приводит к успеху. «Являются мученики; их гибель увеличивает энергию; их энергия усиливает борьбу; все это вызывается в неизбежной последовательности, одно за другим, как всякое явление природы. Нет эпохи, где это явление не повторялось бы в больших или меньших размерах…»[11]. В соответствии с этим Лавров и при рассмотрении современного ему общества выделяет в нем три категории людей: немногочисленных деятелей цивилизации, обладающих развитым самосознанием и критическим отношением к существующим общественным формам, более многочисленных участников процесса развития, являющихся опорой для первых, и остальную массу людей, присутствующих при данном процессе.
Как справедливо отмечает Кареев, это разделение членов общества на три категории не по внешне фиксируемому положению людей в общественном производстве, а по их внутренней настроенности по отношению к социальным формам, носит не социологический, а психологический характер[12].
Ключевыми понятиями социологии Лаврова стали понятия «критически мыслящей личности» и «общественной солидарности». Проблема личности всегда стояла в центре его внимания. «Изучение личности, – писал Лавров еще в 1860 г., – должно предшествовать изучению общества независимо от результата, к которому мы можем прийти»[13]. И позднее, когда под влиянием позитивистских идей он, подобно многим другим социологам, обращался к биологической науке с целью осветить с ее помощью некоторые стороны человеческого общества, то в ней он черпал аргументы не в пользу построения органицистских теорий, подчеркивающих стихийные, безличные стороны общественных процессов и утверждающих поглощение индивидуальности общественным целым, а, напротив, в пользу теории, провозглашающей все большую автономизацию членов общества и их развитие в самобытные личности как стержневой путь в развитии общества. Он прослеживает эволюцию животных сообществ от пчелиного роя до сообществ высших животных и подчеркивает тенденцию к превращению животной особи во все более самостоятельную единицу, способную противопоставить себя целому. В человеческом же обществе особенно ярко выражена автономизация его членов и их развитие в самобытные личности. Движущим мотивом развития личности служит, по Лаврову, чувство наслаждения, получаемое от самого факта развития. Но все большая автономизация личностей приводит не к распаду общественного целого, а, напротив, к укреплению общественной солидарности. «Ясно понятые интересы личности, – пишет Лавров, – требуют, чтобы она стремилась к осуществлению общих интересов; общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях. Поэтому истинная общественная теория требует не подчинения общественного элемента личному и не поглощения личности обществом, а слития общественных и частных интересов»[14].
Общественная солидарность, покоящаяся на общности убеждений, на единстве личных и общественных интересов, это, по Лаврову, высшая форма солидарности, которая приходит на смену солидарности, основанной на привычке, и солидарности, основанной на сходстве аффектов. А общность убеждений возможна только, когда в обществе личности разовьются до степени «критичности мыслящих личностей», под которыми он понимал личности с высоко развитыми не только интеллектуальными, но и нравственными качествами, Критически мыслящие личности являются основными двигателями общественного прогресса. «Обществу угрожает опасность застоя, – пишет Лавров, – если оно заглушит в себе критически мыслящие личности… Как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без них он, безусловно, невозможен…»[15].
Понятие прогресса это еще одно ключевое понятие так называемой «субъективной социологии», если воспользоваться термином, которым широко пользовались в последней трети XIX и начале XX вв. для обозначения социологических учений П.Л. Лаврова, Н.К.Михайловского и ряда других русских мыслителей. Утратив веру в трансцендентного бога, эти мыслители, тем не менее, несомненно сохранили еще ряд существенных психологических черт религиозно воспитанной личности, но только всю свою энергию веры, надежды и любви перенесли с трансцендентного объекта, на такой объект, каким им представлялось общество отдаленного будущего. Вера в исторический прогресс служила для них источником вдохновения и оправдания затраченных сил и перенесенных лишений, а теория прогресса выполняла роль своеобразной теодицеи. Анализируя религиозный аспект всплеска совершенно исключительного интереса к теории прогресса в XIX в., С.Н.Булгаков не без основания замечает, что в это время социология в ряду других наук становится как бы «богословием новой религии»[16]. «Значение теории прогресса, – считает он, – состоит в том, что она призвана заменить для современного человека утерянную метафизику и религию… Грядущие судьбы человечества обсуждаются и взвешиваются нами с таким жаром не из платонического интереса к судьбам этого будущего человечества, но из-за нас же самих, настоящих людей, ибо в зависимости от этих судеб решается роковой, единственный по своему значению вопрос о смысле нашей собственной жизни, о цели бытия»[17].
В отличие от распространившихся позднее, уже в конце XIX и начале XX века, взглядов сторонников экономического детерминизма, вульгаризировавших учение К.Маркса, в значительной степени перекладывавших ответственность за будущее с личности на «объективный ход истории» и превращавших будущее в глазах личности в объект циничного расчета в видах не просмотреть ведущую тенденцию и не оказаться в числе побежденных, Лавров судьбу будущего ставил в теснейшую связь с нравственными усилиями каждой критически мыслящей личности. Как справедливо отмечал Н.И.Кареев, теория прогресса, как она представлена в «Исторических письмах» Лаврова, не столько научная теория, сколько страстная моральная проповедь[18]. И это понятно, ибо критерием общественного прогресса для Лаврова являлся уровень нравственного развития человечества, повышению которого должно было способствовать достижение общественного идеала. Этот идеал он отождествляет с социализмом, определяя этот последний как «идеал справедливейшего общежития, допускающего наиболее сознательное развитие личности при наибольшей солидарности всех трудящихся»[19].
Слово «справедливейшее» в этой формулировке оказывается ключевым. Оно позволяет не только уловить особенность социологических взглядов Лаврова, но и выявить специфику «субъективной социологии» как таковой. Сочувственно разбирая работу своего единомышленника Н.К.Михайловского «Что такое прогресс?», Лавров настаивает на необходимости замены в его формулировке общественного идеала выражения «возможно меньшее разделение общечеловеческого труда между людьми» выражением «справедливейшее разделение труда между людьми». Справедливость для Лаврова – это понятие онтологического уровня, его нельзя разложить на составные части, вывести из чего-то более глубокого. Нельзя сказать, что социалистическое общество является справедливым, ибо оно обладает такими-то чертами. Напротив, только в силу справедливости общество заслуживает названия социалистического. «Социологическая истина, – пишет Лавров, – есть ничто иное, как сознанная справедливость»[20].
Но как ухватить эту справедливость? Где тот градусник, который способен измерить степень справедливости разделения труда? Как в естественных науках нельзя обойтись без микроскопа или телескопа, так и в социологии нельзя «увидеть» и невозможно «измерить» основные характеристики общества без такого «инструмента», как критически мыслящая личность. «Степень развития личности, ее нравственная высота определяет понимание истории»[21]. Отсюда ясно, что для Лаврова невозможным оказывается не только чисто объективное социологическое знание, получаемое с помощью интеллектуальной обработки данных внешних органов чувств, но и сам «объективный ход истории». Падение нравственного уровня мыслящего меньшинства общества не только приводит к утрате теоретического понимания общества, но и сбивает историю с курса. «На вопрос: что такое прогресс? – я предпочел бы ответить: прогресс есть процесс развития в человечестве сознания и воплощения истины и справедливости путем работы критической мысли личностей над современною им культурою. Это определение, – пишет Лавров, – как мне кажется… служит… заключительною теоремою социологии и основою истории»[22].
В дальнейшем, правда, Лавров стал все больше признавать роль экономических интересов большинства как силы, укрепляющей действенность идеалов наиболее развитого меньшинства, если между ними устанавливается согласие, но это послужило лишь коррективом, но не поводом для решительной ревизии основных положений субъективной социологии, которым он остался верен до конца.
* * *
Другим виднейшим представителем субъективной социологии был Николай Константинович Михайловский (1842-1904), талантливый публицист, виднейший идеолог народничества. О социологических взглядах Н.К.Михайловского существует обширная литература. В некоторых отношениях итоговой на сегодня можно считать работу И.А.Голосенко 1986 г.[23], в которой даются ссылки и на основные работы предшественников. Однако следует, по-видимому, признать, что самая первая попытка систематизации и анализа социологии Н.К.Михайловского, предпринятая в 1901 г. С.П.Ранским[24], до сих пор не утратила своего значения, лучшего введения в ее изучение, благодаря ясности изложения и верной акцентировки ее главных теоретических пунктов.
В целом философские взгляды Н.К.Михайловского можно характеризовать как позитивистские. Они сложились у него под влиянием идей О.Конта (главным образом в интерпретации П.А. Лаврова), Ч.Дарвина (в интерпретации его «друга-учителя» И.Д.Ножина) и Г.Спенсера. Позитивизмом обусловлено его пренебрежительное отношение к метафизике, которую он считал порождением преходящего этапа социального развития, и его антропоцентрическое мировоззрение. «В области теоретических вопросов, – пишет Михайловский, – историк снова выдвигает человека центром вселенной. Позитивизму принадлежит честь объединения и обобщения этого стремления. Опять человек становится мерилом вещей, на этот раз уже сознательно… Мысль вводится в свои законные границы, Человек может познавать только явления и те постоянные отношения, в которые они становятся друг к другу. Сущность вещей – вечная тьма. Нет абсолютной истины, есть только истина для человека, и за пределами человеческой природы нет истины для человека. Положения эти вырабатывались веками. Но в курсе философии Конта им подведен полный итог…»[25].
Этими несколькими фразами по сути исчерпываются основы философии Н.К.Михайловского. Усвоенное им отрицательное отношение к метафизике, сопровождалось отсутствием у него серьезного отношения к философским вопросам вообще. И.А.Голосенко справедливо отмечает свойственное Михайловскому отсутствие чутья к специфике философии, смешение философских и естественнонаучных вопросов. «Михайловский поражал своих читателей удивительной пестротой фактических данных и эмпирических обобщений из антропологии, психиатрии, физиологии, криминалистики, биологии, эстетики; отметим… что некоторым из этих обобщений он придавал откровенно философский характер, в частности принципу «борьбы за индивидуальность», фактически перенесенному в социологию из биологии»[26].
Действительно, принцип «борьбы за индивидуальность» составляет самую основу социологии Михайловского. Он исходит из гекклевской классификации индивидуальностей, согласно которой существует иерархия индивидов от простейших органических элементов до личностей и обществ. При этом каждая индивидуальность высшего порядка включает в себя индивидуальности низшего порядка как зависимые от целого части. Организмы (индивидуальности) тем совершеннее, чем разнороднее их строение и разнообразнее функции их составных частей, чем эти части зависимее друг от друга и от целого. Целое тем совершеннее, чем несовершеннее, чем зависимее его части. И вот полностью признавая обоснованность этой теории Геккеля, Михайловский объявляет ей войну в том пункте, где общество объявляется высшей индивидуальностью по отношению к человеческим индивидам и совершенство общества ставится в зависимость от большей подчиненности ему личностей. «Мне дела нет до ее совершенства, – восклицает Михайловский по поводу общества как высшей индивидуальности, – я сам хочу совершенствоваться. Пусть она стремится побороть меня, я буду стремиться побороть ее. Чья возьмет – увидим. И, как приступ к борьбе, я ставлю nicht к теории борьбы за индивидуальность, как раз на том месте, где она захватывает меня»[27]. Такая парадоксальность мысли ставила в тупик критиков Михайловского. Если Михайловский признает данную теорию верной, говорят они, то бессмысленно с ней бороться, а если он признает ее ошибочной, то тогда просто следовало доказать ее несостоятельность[28]. Видимо это решительное противопоставление морального выбора принудительной силе разума побудило М.Алданова зачислить Михайловского в разряд предтеч экзистенциализма[29]. Подчеркивая центральное положение данного конфликта в социологических взглядах Михайловского С.Ранский справедливо отмечает, что «борьба против этой теории (Геккеля. – А.С.) и против органической теории общества, которая, по его (Михайловского. – А.С.) мнению входит в первую, как частный случай, – составляет сущность его многолетней писательской деятельности»[30].
Для оправдания этой своей позиции Михайловский настойчиво проводил мысль о неприемлемости в социологии строго объективного метода исследования. Здесь он, так же как и Лавров, опирался на авторитет Конта, который утверждал, что в своем «курсе позитивной философии он с помощью «объективного метода» пришел от мира к человеку, утвердив его центральное положение в мире, а в своем более позднем труде «Курсе позитивной политики», идя от человека к миру, использовал «субъективный метод, подчиняя ум сердцу»[31].
Субъективный метод, по Михайловскому, используется в социологии потому, что здесь требуется особая восприимчивость к фактам, которой не все обладают; что наблюдатель здесь часто должен ставить себя в положение наблюдаемого и, главное, все социальные явления рассматриваются социологом с точки зрения желательности или нежелательности, всегда оцениваются с точки зрения идеала.
«Социология, – пишет Михайловский, – должна начать с некоторой утопии… В основе исследования будет лежать субъективное начало желательности и нежелательности, субъективное начало потребности… Существенная задача социологии состоит в выяснении общественных условий, при которых та и другая потребность человеческой природы получает удовлетворение»[32].
Общественный идеал, с точки зрения которого Михайловский оценивает социальные явления, это такая форма кооперации, при которой личность достигает всестороннего развития, а это, по его мнению, возможно только при минимальном разделении труда между членами общества, ибо рост разделения труда в обществе превращает человека в винтик, в «палец от ноги». Здесь Михайловский резко полемизирует со Спенсером, видевшем общественный прогресс в усложнении общества, в росте разделения труда между его членами. «Прогресс, – утверждает Михайловский, – есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов»[33].
Как правильно заметил американский исследователь истории русской социологии А.Вукинич, идеализировать простую кооперацию и разносторонность индивида Михайловского побуждали его личные качества и особенность его воспитания и положения в обществе. «Типичный представитель интеллигенции, он (Михайловский. – А.С.) больше интересовался широтой познаний, чем глубиной. Разумеется, он был классической жертвой поверхностного образования и непрофессиональной ориентации русской интеллигенции. Вместо того, чтобы смело взглянуть в лицо процессу растущей профессионализации и специализации в современном обществе, он уходил в воображаемый мир светлой простоты. Как популяризатор современных идей и поборник критического подхода к авторитетам, он внес вклад в победу научного мировоззрения в России; как пишущий непрофессионально на темы, требовавшие высокой технической компетентности, он препятствовал быстрому росту профессионализации научных исследований в России»[34].
В отношении прогресса Михайловский различал типы и степени. Тип прогресса определяется идеалом человека, которым он направляется, а степень указывает на уровень развития техники и социальных институтов. В России, с его точки зрения, осуществляется прогресс более высокого типа, чем на Западе, ибо общину он оценивал выше капиталистического общества. Степень же общественного развития в России он оценивал как более низкую, чем на Западе.
Совершенно очевидно, что социологическая мысль Михайловского движима не столько научным анализом, сколько идеологическими предпочтениями. Он сам неоднократно и откровенно утверждает идеологическую направленность своей социологии. Социальная мысль, по его мнению, должна руководствоваться принципом единства правды-истины и правды-справедливости, принципом «который: 1) служил бы руководящей нитью при изучении окружающего мира… 2) служил бы руководящей нитью в практической деятельности и… 3) делал бы это с такой силой, чтобы прозелит с религиозной преданностью влекся к тому, в чем принцип системы полагает счастье»[35].
Теория прогресса Михайловского призвана была не столько вооружить знаниями интеллигенцию, в которой он видел главную движущую силу истории, сколько вдохновить ее. Лавров упрекал Михайловского за то, что он, «так сильно, обстоятельно и убедительно доказывающий первенство субъективного метода в социологии, получил формулу объективную»[36]. Но эта видимость объективности позволяла Михайловскому опереться на авторитет объективной науки в пропагандистских целях. «Позитивная теория прогресса, – пишет С.Н.Булгаков, - льстит нашей слабости, это эвдемонистическое измышление, которое обещает внешнюю поддержку естественного хода вещей тому, что не находит достаточной поддержки внутри»[37].
Квази-религиозный характер субъективной социологии и позитивистской теории прогресса как ее неотъемлемой составной части уже отмечался. Здесь же следует подчеркнуть, что проявившаяся уже у Михайловского тенденция к объективации исторического прогресса, при сохранении волюнтаристской идеологической структуры, у мыслителей последующих поколений еще более усилилась, что неизбежно привело к нравственной деградации и к укоренению принципа, что цель оправдывает средства. Об этом с поразительной проницательностью предупреждал старший современник Н.К.Михайловского Н.Н.Страхов.
«Какая глубокая разница, – писал он, – между настоящей религией и тем суррогатом религии, который в различных формах все больше и больше овладевает теперь европейскими людьми. Человек, ищущий спасения души, выше всего ставит чистоту души, избегает всего дурного. Человек же, поставивший себе цель вне себя, желающий достигнуть объективного результата, должен рано или поздно прийти к мысли, что цель освящает средства, что нужно жертвовать даже совестью… если того непременно потребует дело»[38].
Будучи человеком высоко нравственным, но отличаясь удивительной теоретической беззаботностью, Михайловский, конечно, не мог предвидеть логики развития пропагандируемой им идеологии. Выполняя в течение почти четверти века роль властителя дум, он воспитал несколько поколений социально-активных людей, у которых волевой напор не просветлялся ясным сознанием неизбежных или возможных следствий борьбы за воплощение их идеалов.
* * *
Следует упомянуть ещё одного видного представителя субъективной школы в социологии – Сергея Николаевича Южакова (1849-1910). Но поскольку его социологическая мысль развивалась в основном в рамках идей Лаврова и Михайловского и он не пользовался таким влиянием как эти два упомянутые мыслители, то подробно излагать его взгляды мы не будем.
Для Южакова личность также является ведущей движущей силой общественного развития. Влияние социальной среды на личности можно рассматривать лишь как вторичное[39]. Общественное развитие, по Южакову, может идти двумя путями. Первый путь – органический, при котором индивиды утрачивают свои качества. Этот регрессивный путь обусловлен склонностью людей к подражанию, проявлением «психологии толпы». Второй путь – прогрессивный. По мере дифференциации культуры люди получают возможность использовать различные социальные роли не утрачивая своей многосторонности. Авторы очерка о социологии С.Н.Южакова справедливо отмечают, что его рассуждения о социальной структуре и развитии отличались абстрактным, вневременным подходом к историческим явлениям[40].
В целом субъективная социология представляет собой уникальный сплав науки и идеологии. Пропагандируя взгляд, что человеческое общество может быть понято только на основе тщательного научного анализа, она оказала значительное влияние на развитие земской статистики, деятельность которой, по признанию западных ученых, привела к тому, что русскую деревню можно отнести к числу наиболее тщательно исследованных сообществ в Европе. В качестве же идеологии она артикулировала народнический взгляд на индивида как главную движущую силу истории и явилась синтезом двух идеологических течений 1860-х гг.: социалистической идеологии Чернышевского и радикального индивидуализма Писарева. Проповедуя эволюционный путь социального развития, субъективные социологи, тем не менее, считали, что прогрессивные эволюционные изменения невозможны без опоры на революционную психологию масс. Наиболее прочной основой построения нового русского общества они считали не структурные изменения в национальной экономике, а демократизацию политического процесса.
Субъективная социология не столько была теоретической основой для политических программ, сколько сама была выводом из народнических политических идеалов. Подчеркивая специфику ценностно-ориентированного социального знания, Лавров и Михайловский предвосхитили, как это неоднократно признавалось, неокантианскую дихотомию ценностно-ориентированных наук о культуре и свободных от ценностей наук о природе. Однако нельзя не видеть и принципиального отличия между народническим и неокантианским отношением к социальному знанию. Если народники ограничивались социальными исследованиями, руководимыми ценностями, то неокантианцев интересовало социологическое изучение самих ценностей. Если неокантианцы рассматривали ценности как выражение универсальных принципов нравственной жизни, как квинтэссенцию человечности, то народники релятивизировали ценности, рассматривая их в конечном итоге зависящими от социального прогресса[41]. «Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, – писал Михайловский, – что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов»[42]. Еще раз подчеркнем, что пробуждая своей пропагандой живой интерес к социальной науке, субъективные социологи одновременно чрезмерной ее идеологизацией препятствовали ее плодотворному развитию.
* * *
Близка к рассмотренным выше социологическим теориям и анархистская социология Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921). «Теория Кропоткина, – пишет Вукинич, – есть нечто большее, чем разработка анархистского наследия. Как особая артикуляция научного подхода к социологии и социологического подхода к науке она глубоко укоренена в русском нигилизме, той ориентации, которая находится в долгу прежде всего у позитивной философии Огюста Конта»[43]. Наиболее существенной для понимания социологии Кропоткина является его книга «Взаимная помощь как фактор эволюции» (СПб., 1907). Н.И.Кареев даже утверждает, что Кропоткина можно было бы и не упоминать в истории русской социологии, не будь этой книги, «которая заключает в себе критику социологического дарвинизма, притом как раз в том же направлении, в каком рассматривали этот вопрос Лавров, Михайловский, Южаков и др.»[44].
Собирать материал для этой книги Кропоткин начал в 1883 г., но непосредственно к написанию приступил в 1888 г. и печатал ее сначала в форме серии статей на протяжении 1890-1895 гг. Книга направлена против тех социальных дарвинистов, которые делали акцент на внутривидовой борьбе за выживание в человеческом обществе и считали, что социальные институты призваны обуздать разрушительные силы этой борьбы, корни которой находятся в человеческих инстинктах. Кропоткин настаивает, что кроме инстинкта взаимной борьбы людям присущ еще более мощный инстинкт взаимопомощи и что именно он определяет социальный и нравственный прогресс человечества. Теорию социальной эволюции Кропоткина можно свести к четырем основным принципам.
Во-первых, эволюция – это универсальный закон всего существующего. Социальная эволюция есть продолжение органической эволюции, и поэтому социология есть продолжение биологии.
Во-вторых, всякая эволюция есть прогресс, в ходе которого силы, коренящиеся в инстинкте взаимопомощи, одерживают победы над силами, берущими начало в инстинкте взаимной борьбы.
В-третьих, эволюция не есть равномерный процесс. Иногда имеет место замедление и даже попятное движение. В истории человеческого общества особенно благоприятные условия для человеческого развития существовали, по мнению Кропоткина, в свободных средневековых городах.
В-четвертых, отдельные части общества эволюционируют с различной скоростью, так что отдельные застывшие элементы становятся препятствием на пути общего развития, что приводит к революции, которая призвана обеспечить дальнейшую свободную эволюцию всего общества.
«В своем превознесении взаимопомощи и кооперации, как главного показателя социальной эволюции, – справедливо указывает Вукинич, – Кропоткин не отходит от сложившейся русской традиции в социальной теории. И действительно, ни один из представителей русской социологической мысли не рассматривал борьбу за существование как основной двигатель социальной эволюции. Германский социолог Альберт Шеффле, наиболее крайний представитель социального дарвинизма, провозгласивший, что наиболее сильные общества, то есть общества с максимальным потенциалом выживания в борьбе за существование являются также обществами с наиболее высоким уровнем моральности, не нашел ни одного последователя в России»[45].
Подобно Михайловскому, Кропоткин считал показателем прогресса рост свободы и независимости индивидов. Что же касается субъективного метода в социологии, то Кропоткин его полностью отвергал и пытался познавать общество не через проникновение в сознание индивидов, а через познание с помощью естественнонаучных методов инстинктивной основы поведения людей. Он отверг взгляды позднего Конта, выраженные в его «Курсе позитивной политики» и попытался продолжить линию развития идей его «Курса Позитивной философии».
«Когда Конт закончил свой “Курс позитивной философии”», – пишет Кропоткин, – он несомненно должен был заметить, что его философия еще не коснулась самого главного, – а именно происхождения в человеке нравственного начала и влияния этого начала на человеческую жизнь… Ему требовалось выяснить… почему человек чувствует потребность повиноваться своему нравственному чувству или по крайней мере считаться с ним. Но на это у него не хватило ни знаний… ни смелости. Тогда он взял Бога, понимаемого религиями как кумир, которому надо поклоняться и молиться, чтобы быть нравственным, и на его место поставил Человечество, с прописною буквой. Этому новому кумиру он велел молиться… Подобно Сен-Симону, Фурье и почти всем своим современникам, Конт заплатил таким образом дань своему христианскому воспитанию»[46].
Отвергнуть трансцендентного бога еще не значит распрощаться с религией. Объектом культа может стать общество будущего или государство.
«Что же касается до поклонения перед сосредоточенною властью и до возвеличения подчиненности (дисциплины), которым человечество исторически обязано больше всего средневековой церкви и церковному правлению вообще, то эти “переживания”, – пишет Кропоткин, – до сих пор еще удержались среди массы социалистов»[47].
С 1840-х гг. в европейском революционном движении господствовала, по мнению Кропоткина, идеология «подначального» или «церковного» коммунизма. Вожди этого движения провозглашают курс на установление диктатуры для «воспитания» масс якобы еще не готовых устраивать свои собственные дела. И это «еще не», как водится, будет длиться до скончания времен. Социологическая мысль Кропоткина и направлена на то, чтобы выбить почву у такого патернализма. «Власть, – пишет Кропоткин, – не может стать орудием освобождения»[48]. «Нигде, никогда мы не находим в истории, чтобы люди, вынесенные в правительство революционною волной, были на высоте положения»[49]. Народ не нуждается в воспитательных мерах со стороны начальства, ибо основой нравственности является заложенный в каждом инстинкт солидарности и взаимопомощи, который для своего проявления требует лишь освобождения от давящей государственной и идеологической надстройки. Отсюда и понимание Кропоткиным революции как перестройки общества снизу, совершаемой сначала и до конца самими массами, а не от имени масс и не во имя масс. «Мы понимаем будущую революцию не как якобинскую диктатуру… Мы понимаем революцию как всеохватывающее народное движение, во время которого в каждом городе и деревне данной области… народным массам придется самим взяться за перестройку»[50].
В борьбе между государством и гражданским обществом Кропоткин всецело на стороне последнего, и революцию он понимает по сути лишь как ускоренную эволюцию гражданского общества, сбрасывающего с себя путы государства.
Обладая громадной эрудицией в области естественных наук и стремясь в гуманитарной области неуклонно следовать методам, выработанным в естествознании, Кропоткин, однако, не столько убеждал своих современников научной аргументацией, сколько завоевывал их сердца, провозглашая глубоко человечные идеалы. «Как и у Михайловского, у Кропоткина реалистичность понимания существующего общества сопоставима только с утопичностью мечты об идеальном обществе будущего»[51].
* * *
Если в 1870-х гг. идеи позитивистской социологии в России развивались главным образом в форме журнальной публицистики, то к началу 1880-х гг. эти идеи уже довольно широко распространились в академических кругах. И хотя как особая дисциплина социология в России была признана и стала преподаваться только в XX столетии, ее идеи разрабатывались историками и правоведами при обсуждении методологических проблем соответствующих наук и использовались в конкретных исследованиях по социальной истории и истории права.
Среди профессиональных историков наиболее последовательным сторонником русской субъективной школы в социологии являлся Николай Иванович Кареев (1850-1931). В прочитанном в 1879 г. в Московском Юридическом обществе реферате «О субъективизме в социологии» он отстаивает мысль о невозможности в социальных науках ограничиться лишь объективными методами исследования. «Сами социальные явления, – утверждает он, – заключают в себе такой элемент, который требует субъективного к себе отношения, чтобы быть понятым»[52]. Заявляя себя сторонником позитивизма и противником «метафизической социологии», он утверждает, что основной клеточкой социального анализа должны служить не некие общие сущности, как государства или цивилизации, а человеческие личности. «Позитивизм должен начинать с простого и реального; такова человеческая индивидуальность»[53]. И инструментом познания выступает не некое абстрактное бесстрастное существо, а живая человеческая личность. Понять человеческую личность – значит проникнуться ее мотивами и идеалами, а оценить их качество можно только с точки зрения идеалов собственных. Количественную сторону социальных явлений можно познавать объективно, но качественную – только субъективно.
«Мы смотрим не на одни внешние размеры факта, но и на его внутренний смысл; определяем отношение его к другим фактам не по одному количеству, но и по качеству его влияния. На почве такой оценки у нас являются понятия прогрессивного…»[54].
Не желая порывать с позитивистским принципом единства естественных и социальных наук и защищаясь от критики со стороны представителей натуралистической социологии, он в своей более поздней работе «Задачи социологии и теории истории» пишет, что нужно следовать не букве, а духу естественных наук, что нужно лишь неукоснительно следовать принципу изучения действительности так, как она дана нам в опыте, ничего не прибавляя и ничего не умаляя. «Натуралистическая социология, – переходит он в наступление, – как раз занимается умалением того, что дает нам и обыденное и научное наблюдение над общественною жизнью человека»[55].
Большая часть научной деятельности Кареева протекала за рамками рассматриваемого нами периода и поэтому не может быть рассмотрена в данной главе. Отметим лишь, что проведенное им разграничение между историей и социологией как наукой феноменологической (описывающей явления) и наукой номонологической (исследующей общие законы) соответствует с некоторыми поправками контовской классификации наук на конкретные и абстрактные. «Конт лишь не принял в расчет, – уточняет Кареев, – что не всякая абстракция ведет к открытию законов и что не всякое описание явлений бывает конкретным»[56].
Среди целого ряда других историков, испытавших на себе влияние позитивистской социологии следует упомянуть Ивана Васильевича Лучицкого (1845-1918), профессора Киевского, а затем Петербургского университетов. Кареев называет его «первым русским историком, отразившим на себе влияние Конта»[57] и сообщает, что в частных беседах он высказывал даже мнение, что «вся историческая наука должна была бы свестись к оправданию социологических построений Конта»[58]. В своих конкретных исторических исследованиях он ставил перед собой по сути социологические задачи, пытаясь выяснить структуру конкретного общества и описать его функции в статистическом и динамическом отношении.
Испытал влияние позитивистской социологии историк Павел Николаевич Милюков (1859-1943). В работе 1887 г. «Историография г.Кареева» он защищал контовскую классификацию наук от поправок Кареева и, по словам последнего, обнаружил себя «позитивистом в большей мере, чем критикуемый автор»[59]. Из социологических построений Милюкова следует упомянуть его трактовку соотношения между гражданским обществом в России и на Западе. На Западе, по мнению Милюкова, государство возникло на определенном этапе эволюции общества, как гарант установившейся системы стратификации. В России же, по его мнению, государство возникло раньше общества и положило начало его развитию.
Испытали на себе также влияние позитивизма такие крупнейшие историки как Василий Осипович Ключевский (1841-1911) и Павел Гаврилович Виноградов (1854-1925).
* * *
Все основные социологические работы одного из основателей профессиональной русской социологии и первого академика в этой области Максима Максимовича Ковалевского (1851-1916) написаны позднее рассматриваемого периода, поэтому ограничимся здесь лишь самой общей характеристикой его социологических воззрений.
Ковалевского относят к социологам-эклектикам, видевшим ограниченность позиций психологического или биологического редукционизма и черпавшим материал для своих плюралистических теорий из работ, написанных на основе самых различных принципов[60]. Он шел не от философских умозрений, а от фактического материала. «Всего сильнее он был не в создании новых самостоятельных теорий, а в широком синтезе историко-социологической мысли своего времени на принципах позитивистского эволюционизма»[61]. Славу ему создали его работы в области сравнительной истории, опирающиеся на огромный массив письменных источников и этнографических наблюдений. «Социологом высокого ранга» назвал его американский исследователь истории русской социологии[62], а Туган-Барановский оценил смерть Ковалевского в 1916 г. как самую большую потерю для России со времени смерти Льва Толстого[63].
* * *
Другим профессиональным русским социологом, прожившим большую часть творческой жизни за границей, но в 1908 г. возглавившим вместе с М.М.Ковалевским первую социологическую кафедру в России, был Е.В.Де-Роберти.
Его относят к сторонникам психологического редукционизма в социологии, но в работах, написанных в 1880-х гг. он еще саму психологию рассматривает как явление био-социального порядка и заявляет: «Становится невозможным видеть в исследовании… психических явлений естественное основание социологии. Последняя роль может отныне быть сохранена только за физиологией мозга»[64]. Написанный в этот период труд «Социология» (1880) является сухим методологическим трактатом по методологии и по сути является всего лишь призывом к построению социологии.
Здесь он заявил себя верным принципам позитивизма, утверждая, что вне основных положений позитивизма «немыслимо существование какой бы то ни было философской доктрины». «Позитивизм, – утверждает он, – есть философия опыта, и только философия опыта» и поэтому он тождественен науке как таковой. «Ни по другому пути, чем наука, ни впереди её – вот настоящий позитивизм»[65].
Призвав к построению науки социологии, Де-Роберти заявил, что к этому можно будет приступить не раньше, чем подведя под эту науку основание. Таким основанием должна стать естественная история общества. «Социологии недостает естественной истории общества, или сравнительного и аналитического описания общественных явлений. Другими словами, социологии недостает ясного сознания того, что будучи наукою отвлеченною, она вместе с тем есть и наука описательная по существу»[66].
Вскоре после опубликования этой книги Де-Роберти эмигрировал во Францию, где оставался до 1904 г. и никакого влияния на развитие русской социологии в рассматриваемый период не оказал.
* * *
Под влияние идей Г.Спенсера сложилась органическая школа в социологии, основным методологическим принципом которой явилось сопоставление общества с биологическим организмом.
Наиболее последовательно эту идею проводил Павел Федорович Лилиенфельд (1829-1903), выпустивший в 1872 г. под псевдонимом П.Л. книгу «Мысли о социальной науке будущего», которую царское правительство запретило, посчитав, что за этим псевдонимом скрывается Петр Лавров. Самому П.Ф.Лилиенфельду пришлось исполнять приказ об изъятии книги на вверенной ему территории. «Сопоставление человеческого общества с природою, признание социальной жизни продолжением жизни природы и общественного организма реальным существом наравне с прочими организмами, развивающимися во времени и пространстве, – вот, по глубокому убеждению автора, та твердая почва, на которой единственно возможно прочное возведение здания социальной науки»[67].
Как в биологическом организме, при его росте развивается то, что уже заложено в эмбрионе, так и в обществе, по мысли Лилиенфельда, все существует в зачаточном состоянии с самого начала. «Коммунизм, – пишет он, – так же стар, как и собственность, и социализм получил начало одновременно с государством»[68].
Поскольку между обществом и биологическим организмом постулируется полная аналогия, то изучение общества призвано обогатить биологическую науку. По мнению Лилиенфельда даже нет нужды в двух различных наборов понятий. И там и там можно обходиться одними и теми же понятиями, не затрачивая усилий на изобретение новых.
«Оказываются совершенно излишними определения: что такое труд, собственность, право, свобода, власть, государство и т.д., коль скоро установлена будет реальная аналогия между экономическою, юридическою и политическою сторонами развития человеческого общества и физиологическою, морфологическою и индивидуальною сторонами организмов природы. Какое упрощение научного аппарата! Какое сокращение и облегчение умственного труда…»[69].
Органицистские же идеи, хотя и дополненные механицизмом, развивал Александр Иванович Стронин (1826-1889) в своих работах «История и метод» (1869), «Политика как наука» (1872) и «История общественности» (1886).
Аналогия для Стронина, так же как и для Лилиенфельда, является основным методом исследования. Хотя он и пытается утверждать, что общество – это более сложный организм, чем любой биологический, но фактически он не выявил никакого существенного различия между ними. «Социология, – утверждал он, – необходимо уже должна быть аналогичной с физиологией»[70].
Кроме аналогии с организмом Стронин усматривал в обществе аналогию с пирамидой. В основании общества находится, по его мнению, многочисленный класс земледельцев и ремесленников, а венчает пирамиду привилегированное меньшинство.
«Отождествление структуры общества с пирамидой, а его жизнедеятельности – с функционированием человеческого организма и психики, – отмечает В.М.Звягинцев, – послужило Стронину теоретической основой для крайне консервативных политических выводов»[71].
Гораздо плодотворнее применил в социологии идеи географизма крупный ученый-географ, социолог и публицист Лев Ильич Мечников (1838-1888).
Мировую известность ему принесла изданная уже посмертно его книга «Цивилизация и великие исторические реки», в которой он установил типологию цивилизаций, которые, по его наблюдениям, развивались сначала в бассейнах великих рек, потом по берегам морей и, наконец, достигли уровня океанических цивилизаций. Книгу Мечникова высоко оценил Г.В.Плеханов. «… Нисколько не преувеличивая, – писал он, – можно сказать, что книга Л.И.Мечникова затрагивает самые основные вопросы философии истории»[72].
Устанавливая отличие общества от органической жизни, Мечников утверждал, что в обществе имеет место не равновесие борьбы и сотрудничества, а превалирует стремление к кооперации. Чем выше степень свободы при установлении кооперации в данном обществе, тем на более прогрессивной стадии оно находится. Понимание прогресса у Мечникова сложилось под некоторым влиянием анархизма, с лидерами которого он поддерживал личные отношения.
* * *
Конец 1860-х – конец 1880-х гг. это первая стадия возникновения в России науки социологии, философской основой которой послужил главным образом позитивизм.
Первые ассоциации, которые возникают в нашем сознании при слове «позитивизм» это нечто «бескрылое», лишенное «божества и вдохновенья». Сегодня эти ассоциации правомерны, но если мы вспомним позитивизм в период его «бури и натиска», то следует учесть, что этот период характеризовался беззаветным энтузиазмом в науке, солнечным, многоцветным импрессионизмом в искусстве, прекраснодушным, в лучшем смысле этого слова (без иронического оттенка) либерализмом в политике, верой в изначально добрую природу человека. Все эти явления не могут не вызывать симпатии и одобрения. Но на другой чаше весов при этом окажутся вещи не менее весомые: страсть к упрощению, неискоренимый инфантилизм, вера в то, что от зла, как от чего-то внешнего и случайного, можно раз и навсегда освободиться, и постоянные попытки, разрезав магнит, отделить южный полюс от северного. Исследователи жизни подростков, кстати, неоднократно отмечали, что освободившись от тягостной опеки взрослых, они в своей среде зачастую устанавливали порядки, характеризующиеся несравненно более жестокими формами господства и подчинения. Не исключено, что дорога в ад тиранических режимов двадцатого века мостилась не без помощи «очистительной» работы позитивизма.
Обе стороны медали – и беззаветный энтузиазм, и страсть к упрощению – можно увидеть и в деятельности пионеров социологии в России.
Оценивая уровень развития социологической мысли в России в указанный период, американский историк науки А.Вукинич считает, что в биологическом направлении вклад в социологию русских по крайней мере был равен вкладу английских, немецких и французских ученых. Работы М.М.Ковалевского в области сравнительной истории он признает первопроходческими. Петр Кропоткин, по его мнению, первый предпринял серьезную попытку перевести анархизм в целостную и всеохватывающую социальную теорию и провел четкие разграничительные линии между анархизмом, с одной стороны, и теориями Спенсера, Конта и Маркса – с другой. Но особенно высоко он оценивает вклад субъективной социологии Лаврова и Михайловского, которые предвосхитили попытки неокантианцев в выдвижении эпистемологических и логических аргументов в пользу освобождения социальной теории от преклонения перед естественнонаучными моделями[73].
Позитивистская социальная мысль развивалась в борьбе с религиозным и метафизическим мировоззрением. Степень освобождения от его влияния и степень распространения научного знания об обществе выступала для ведущих русских социологов мерилом социального прогресса. А носитель социального знания, интеллигенция, выступала как главный его двигатель.
Для субъективной социологии интеллигенция – главная тема исследования, а сама эта социология превратилась в составную часть идеологии народнической интеллигенции. Одна из особенностей русской позитивистской социологии это тенденция признавать главным двигателем истории социальную солидарность, а не социальный конфликт. Эта тенденция в полной мере обнаружилась и в её ведущем направлении – субъективной социологии. Интеллигенция ею понималась как вырастающая из всех классов и представляющая все гласы, поэтому интерес к классовому анализу был в ней приглушен. Все внимание сосредоточивалось на интеллигенции как на авангарде всего общества. Будучи сама ярко окрашена авангардистскими настроениями, эта социология оказала влияние на формирование авангардистских идеологий XX века
[4] Бокль Т. История цивилизации в Англии, 1863. Иевел У. История индивидуальных наук, 1867. Кетле А. Социальная система и законы её управления. СПб., 1866. Льис Г.Г., Милль Д.С. Огюст Конт и положительная философия. СПб., 1967.
[5] Цит. по: Лемке М. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908. С. 496-505.
[20] Лавров П.Л. Формула прогресса Н.К.Михайловского. Противники истории. Научные основы истории цивилизации. СПб., 1906. С. 43-44.
[23] Голосенко И.А. Социологические взгляды Н.К.Михайловского// Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционное время. М., 1986. С. 25-55.
[29] «Русская субъективная школа была философской школой. Я, впрочем, считал бы ее создателями не Лаврова, а Герцена и Михайловского. Русская субъективная школа предвосхитила… главное в нынешнем экзистенциализме, по крайней мере в его сартровском подразделе. Сартр просто повторил зады русской субъективной школы…». Алданов М. Ульмская ночь. Нью-Йорк: Изд. Им. Чехова, 1953. С. 258.
[34] Vucinich A. Social thought in tsarist Russia: The quest for a general science of society, 1861-1917. Chicago a.London: The university of Chicago press. 1976. P. 30.
[38] Цит. По: Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Frankfurt/Main. 1983. С. 113.
[40] Социологическая мысль в России: Очерки истории немарксистской социологии последней трети XIX – начала XX века. Л., 1978. С. 185.
[61] Ковалев А.Д. Эволюционная социология М.М.Ковалевского/ Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционной России. М., 1986. С. 83.