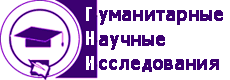Одна из первых книг о нашем герое называется «Мир и фильмы Андрея Тарковского»1. Несмотря на некоторый «штамп», в данном случае такое название вполне уместно. Ведь сотворение мира — сюжет мифологический, а Тарковский, безусловно — один из величайши мифотворцев XX века, создавший в своих произведениях целостный образ человека и мира2. Чтобы оценить масштаб и оригинальность этого творения, обратимся к тому контексту, который образует его культурологическую «рамку».
Судьба мифа в европейской культуре драматична. На протяжении тысячелетий с ним ведется война. Сперва это была критика языческой мифологии и теологии со стороны философов. Затем начатую философами критику по-своему продолжили христианские отцы церкви — при этом заодно досталось и самим философам. В эпоху Ренессанса и Просвещения в качестве мифов развенчиваются уже догмы самого христианства. В культуре нарастает тенденция демифологизации. Разоблаченным мифам противопоставляются идеалы рациональности. Впоследствии оказалось, что и они во многом мифологичны…
Словно по законам прилива и отлива, захлебнувшуюся волну демифологизации сменяет поток ремифологизации. У его истоков стояли немецкие романтики, увидевшие в мифе свой эстетический идеал. Разумеется, реанимированный миф не мог не отличаться от первообраза. Романтики чрезвычайно свободно обращались с сюжетами традиционной мифологии, создавая эклектический сплав из образов христианского и языческого, восточного и западного, фольклорного и сугубо литературного происхождения. Квазимифологическая фантастика понадобилась романтикам для создания атмосферы таинственного и чудесного, для противопоставления высшей поэзии прозе жизни.
Романтическую программу «новой мифологии» наиболее широко воплотил Эрнст Теодор Амадей Гофман, дополнивший ее взаимопроникновением чудесного и обыденного, мифологизацией повседневности. С одной стороны, в самых заурядных ситуациях у Гофмана обнаруживаются чудесные силы из иного мира, а с другой — сами эти фантастические силы выступают в сниженном, зачастую комическом виде. В то же время, мифические образы Гофмана проявляются на пересечении природы, культуры и быта. Они часто связаны с изображением умерщвляемой природы и оживающих предметов культуры, бунтующих против людского отчуждения, бездушного рационализма и техницизма современной цивилизации. Практически во всех произведениях Гофмана присутствует тема художника-энтузиаста, самоотверженного жреца искусства, которому единственному дано воспарить над миром пошлости, где правит корыстный расчет и мещанский здравый смысл. Важным достижением Гофмана стала разработка темы двойничества и перевоплощения, дублирования героев в пространстве и времени. Особое значение Гофмана для становления и оформления мифологической традиции в искусстве XX века бесспорно. Повлиял он и непосредственно на Тарковского. И хотя замысел «Гофманианы» остался неосуществленным, рецепция многих элементов эстетики Гофмана Тарковским не подлежит сомнению.
Своеобразным мостом от романтического мифологизма к модернистскому явилась музыкальная драматургия Рихарда Вагнера. Согласно Вагнеру, миф рождается в душе народа и представляет собой универсальный поэтический язык для выражения общечеловеческих чувств, жизни природы, конфликта природы и культуры, великого трагизма бытия. Неоромантическому мифологическому символизму соответствует разработанная Вагнером музыкально-драматическая техника сквозных тем — лейтмотивов — в виде повторяющихся «самоцитат», развертывания отдельных мотивов в целые сцены, их контрапунктического разветвления. Вагнеровская техника лейтмотивов, напоминающая о ритуально-мифологической цикличности, оказалась весьма продуктивной также для литературы и кино — и здесь тоже уместно вспомнить в числе первых имя Тарковского.
В культуре XX века традиция мифологизации находит выражение в эстетике модернизма и, прежде всего, в литературе «потока сознания». Это неслучайно. Мифологизм XX века — одновременно и художественный прием, и стоящее за ним мироощущение. Пафос модернистского мифологизма не только в обнажении духовного измельчания и эстетического уродства современного мира, но также в выявлении вневременных начал, просвечивающих сквозь быт и историю. Магическим кристаллом, в котором отражаются эти вечные начала, и служит поток сознания, объединяющий в себе прошлое, настоящее и будущее. В нем время истории превращается в безвременный мир мифа. Перефокусировка с внешних событий на жизнь сознания повлекла за собой разработку техники внутреннего монолога и заставила обратиться к глубинной психологии человека. Трактовка психоанализа в духе Карла Густава Юнга, как восхождения к извечным архетипам, дополнительно стимулировала углубление мифологического русла.
Знаменательно, что именно проблема времени, а точнее — спасения от безжалостности времени и поиск вневременного, становится центральной для художников-мифотворцев XX века : Марсель Пруст называет свою эпопею «В поисках утраченного времени»; Улисс Джеймса Джойса мечтает «пробудиться от ужаса истории»; Томас Манн стремится уравновесить, примирить вечность мифа и текучесть истории. Добавим, что и для Тарковского важнейшее в киноискусстве — возможность «запечатления» ускользающего времени. «Меня уже много лет мучает уверенность, что самые невероятные открытия ждут человека в сфере Времени. Мы меньше всего знаем о времени»3, — писал Тарковский в «Мартирологе».
Тарковский хорошо знал современную западную литературу, с прозой «потока сознания» был знаком и оценивал ее очень высоко. Брат актера Анатолия Солоницына Алексей в своем мемуаре с характерным названием «Кино как волшебство» вспоминает их совместную встречу с режиссером в период работы над фильмом «Андрей Рублев»: «Очень быстро разговор перекинулся на литературу, искусство. Я только что прочел «По ком звонит колокол» и был в восторге от Хэмингуэя. Спросил, нравится ли ему роман. Он улыбнулся насмешливо: – «Это вестерн». Кажется, от удивления у меня открылся рот. – «Вам не понравилось?» – «Что значит «не понравилось»? Я же говорю — вестерн. Такая американская литература, где все ясно, как в аптеке». Вот это да. Он рисуется или говорит искренне? Свежи были впечатления от недавно прочитанной в журнале повести Стейнбека «О людях и мышах». Может, такая литература ему больше по душе? – «Это написано еще хуже. Игры в психологю», – он посмотрел на брата. – «Понимаешь, Толя, интересно искусство, которое касается тайны. Например, Марсель Пруст». Он стал пересказывать сцену из романа «В сторону Свана», где мальчик едет по вечерней дороге. Шпили трех колоколен в глубине долины по мере движения путника поворачиваются, расходятся, сливаются в одно. Мальчик ощущает странное беспокойство, оно томит его душу. Почему? Что его мучает? Мальчик приезжает домой, но беспокойство не проходит. Тогда он садится к столу, записывает свое впечатление. И душа его успокаивается. – «Понимаешь, Толя? - говорит режиссер, увлеченный рассказом. – Тут прикосновение к тому, что не передается словами. И в нашем фильме мы будем идти в ту же сторону»4.
Итак, Тарковский восхищается Прустом. Он глубоко увлечен творчеством Томаса Манна, который из великой плеяды писаталей-мифотворцев XX века ему, пожалуй, ближе всех идеологически. При этом эстетически ему чрезвычайно созвучен Джеймс Джойс. Конгениальность этих двух мастеров поразительна. И удивительно, что проблема «Тарковский и Джойс» — это практически terra incognita по сей день. В 250-страничном исследовании Сергея Хоружего «Улисс» в русском зеркале» имя Тарковского даже не упомянуто, хотя само название этой работы невольно отсылает к фильму, в котором художественная перекличка с Джойсом наиболее очевидна. Лишь Екатерина Гениева в одной из своих статей вскользь называет «Зеркало» Тарковского «кинематографическим «Улиссом»5…
Каковы основные принципы поэтики Джойса? В своей программной статье «Драма и жизнь» писатель говорит, что цель искусства — это передача «вечно существующих человеческих надежд, желаний и ненависти». «Форма вещей, как и земная кора, изменяется… Но бессмертные страсти, человеческая сущность поистине бессмертны, будь то в героическую эпоху или в век науки»6. Приближение к этой цели достигается у Джойса благодаря таким приемам, как виртуозное описание потока сознания и подсознания, перемещающаяся точка зрения, параллельное и перекрещивающееся движение нескольких рядов мыслей, фрагментарность и «монтажность» текста, игра слов и словотворчество, а в целом — мифотворчество, стремление к изображению жизни и человека «с точки зрения вечности». Джойс истолковывает видения и сны своих героев, события, происходящие в настоящем сопоставляет с прошедшими, создает сеть ассоциаций, сближая и перекрещивая различные временные пласты. История человечества предстает как замкнутый круг, как «вечное возвращение»…
Роман «Портрет художника в юности» — духовная автобиография Джойса, в которой показана история становления творческой личности, сопряженная с трудным разрывом со всем тем, что сковывало ее свободу: семьей, религией, родиной. Сама фамилия героя — Дедал — аллюзия на мифического создателя крыльев, позволивших преодолеть притяжение земли. (Вспомним пролог фильма Тарковского «Андрей Рублев», где первоначально предполагалось использовать именно крылья). В то же время, Джойс оставался глубоко укоренен в том, с чем разорвал. Живя вдали от родины, он писал только о ней… Сбросив с себя духовный гнет католической церкви, Джойс оставался наследником христианской культуры. Знаменательно, что моменты постижения прекрасного, как и моменты духовных прозрений человека, писатель обозначает заимствованным из церковно-богословского лексикона понятием «епифании» (богоявления). Замысел главного романа Джойса — «Улисс» — связан со стремлением создать новую «Одиссею», в которой отображены вечные начала бытия. При этом, двигаясь по пути мифологизации прозы жизни XX века, Джойс создает именно эпос современности, а не просто вписывает ее в матрицы старой мифологии.
Весьма характерно, что Джойсу тесны традиционные литературные рамки. Исследователи отмечают, что автор «Улисса» стремился превзойти имевшиеся в его распоряжении выразительные средства, добиваясь от слова музыкальных и кинематографических эффектов. «Проза Джойса музыкальна — констатирует Нина Михальская. — Он максимально широко использовал музыкальные возможности языка, добиваясь «эффекта одновременности впечатления», производимого формой и звучанием творимого образа. Подобный эффект достигается при слиянии зрительного и слухового восприятия»7. На кинематографичность джойсовского письма указывает Елеазар Мелетинский: «По мере синтагматического развертывания текста романа отдельные фрагментарные эмпирические факты, впечатления и ассоциации, как своего рода кинокадры, монтируются в общую картину, проясняются концептуально»8.
Кинематографический потенциал разработанных Джойсом художественных методов привлек внимание Сергея Эйзенштейна, в творческой биографии которого принято выделять целый «период увлечения Джойсом». В 1928 году Эйзенштейн с восторгом читает романы Джойса и приходит к концепции «интеллектуального кинематографа», согласно которой центром внимания в кино должен стать внутренний мир человека. Режиссер вынашивает планы экранизации «Улисса» и… «Капитала» Карла Маркса, с использованием джойсовской техники «внутреннего монолога». 30 ноября 1929 года состоялась встреча Эйзенштейна с Джойсом в Париже. В 1932 в статье «Одолжайтесь!» режиссер резюмировал свой взгляд на Джойса и свой опыт применения его методов. 1 ноября 1934 Эйзенштейн выступил с лекцией о Джойсе перед студентами ВГИКа. Великий режиссер считал творчество Джойса высшим и последним словом «прежних искусств», которое указывает искусству будущего — кинематографу — его истинный путь9. Наконец, нельзя не отметить, что фильмы Эйзенштейна также представляют собой пример гениального мифотворчества, хотя и иного свойства, нежели мифотворчество Джойса и Тарковского.
Мне пока не удалось обнаружить прямых свидетельств отношения Тарковского к Джойсу. Учитывая внимательность режиссера к знаковым фигурам западной культуры, трудно предположить, что проза ирландского мастера осталась ему неизвестной, тем более, что перевод «Улисса» публиковался в СССР в 30-е годы. Информация о Джойсе могла быть получена и через школьную традицию, в частности, через Михаила Ромма, который хорошо знал Эйзенштейна и оставил о нем воспоминания. Эйзенштейна и Тарковского принято рассматривать как антиподов, исповедующих принципиально разные концепции киноэстетики: «монтаж аттракционов» у первого и «ваяние из времени» у второго. Однако не следует абсолютизировать связанные с этим противоречия: скорее всего, они диалектичны. Да, «единица» киноматериала Тарковским понималась иначе, но искусство монтажа для него значило не меньше, чем для Эйзенштейна. Тарковский принадлежал к отечественной школе кинематографии, в которой значение и влияние Эйзенштейна было огромным. Осваивая традицию, Тарковский шел вперед, но не отвергая ее, а творчески переосмысляя. Сосредоточенность на внутреннем мире человека, акцентируемая Эйзенштейном под влиянием Джойса — как минимум отвечает задачам, которые стремился решать Тарковский.
В конце концов, принципиален не формальный критерий: знал или не знал Тарковский Джойса (и насколько), а эстетическая созвучность двух мастеров. При описании поэтики Джойса мне показалось излишним перечислять соответствующие параллели у Тарковского: для тех, кто знает его фильмы, эти параллели, как мне кажется, достаточно очевидны. Однако, чтобы не быть совершенно «голословным», приведу один яркий пример. В 15-м эпизоде «Улисса» есть знаменательная сцена: Стивен Дедал и Леопольд Блум смотрят в зеркало и вместо своего отражения видят лицо Шекспира. Прямо или косвенно, эта сцена неоднократно цитируется Тарковским: таинственное замещение персонажа в зеркальном отражении — излюбленный прием режиссера, использованный в «Зеркале» и в «Ностальгии».
Не исключено, что никакого «цитирования», как и прямого влияния Джойса на Тарковского, не было вовсе, а было общее умонастроение, местами совпавшее до деталей. Такие чудеса в истории культуры случаются, когда определенные идеи, так сказать, «носятся в воздухе», передаются по невидимым, интуитивным каналам… Тарковского с Джойсом сближает не только эстетика, но и топика их мыслительного пространства, в центре которого самопознание человека, его связи с семьей, родной страной, духовно-культурной традицией и всечеловеческим опытом. Вполне естественно, что конкретные трактовки этих проблем у ирландского писателя и русского режиссера во многом не совпадают. Но сама обращенность к этим универсальным и фундаментальным темам, при сходстве художественных методов, позволяет говорить о них как о великих сподвижниках, проводниках человечества в духовной пустыне современного дегуманизированного мира.
Американский исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл рассматривал Джеймса Джойса и Томаса Манна как создателей некой стихийной психологической «метамифологии»10, вне традиционной мифологии и религиозности. Впрочем, говорить о «стихийности» творчества Джойса и Манна можно лишь с большой натяжкой: для этого они слишком «книжные» мифотворцы, уж больно изощрен их интеллектуальный бэкграунд. В этом отношении Тарковский соперничать с ними не мог. Но именно это, быть может, и оказалось его преимуществом, придало его творениям ту самую стихийность, ту святую «простоту без пестроты» и непосредственность, которые так важны для мифотворчества и которые делают работы Тарковского столь привлекательными для нас.
1Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. Сост. А.М. Сандлер. М.: «Искусство», 1991.
2Одним из первых предложил рассматривать кинематограф Тарковского в контексте мифотворчества Марк Зак, поставивший под сомнение попытки вычитать в его фильмах специфически религиозное содержание и указавший, что скорее «речь должна идти о мифологических истоках искусства» (М.Е. Зак. Андрей Тарковский: Творческий портрет. М., 1988. С. 35.).
3Тарковский Андрей. Мартиролог. Дневники 1970-1986. Международный Институт имени Андрея Тарковского, 2008. С. 71.
6Цит. по: Михальская Н. Джойс // Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь. Под ред. Н.П. Михальской. Ч. 1. М.: «Просвещение», 1997. С. 266.
9См.: Хоружий С.С. Улисс в русском зеркале // Джойс Д. Сочинения. Т.3. М.: «Знаменитая Книга». С. 548-551.