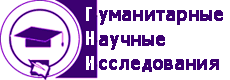Разделение искусства на наблюдательное и экспериментальное восходит к работе Э. Золя «Экспериментальный роман», которая, в свою очередь, опиралась на книгу К. Бернара «Введение в изучение экспериментальной медицины». По мнению Ю.В. Манна, Д.Н. Овсянико-Куликовского увлекла идея применения к литературоведческим знаниям точных, почти естественнонаучных и математических мерок: «Вначале он опробовал эти мерки в книге о Гоголе и в статье о Чехове, потом обобщил в отдельной работе «Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве» [2, с. 12].
Развивая идеи А.А. Потебни о слове как произведении искусства, Д.Н. Овсянико-Куликовский ставит вопрос о взаимосвязи обыденного языка, мышления и произведения искусства. Лингвист и литературовед различает повседневное и художественное мышление. Первое – явление низшего порядка, второе – высшего, но именно бытовое, обыденное мышление, по его мнению, рождает художественный образ. А.А. Потебня выразил эту мысль так: поэзия «не только там, где великие произведения, как электричество не только там, где гроза» [5, с. 332].
Д.Н. Овсянико-Куликовский говорит о том, что существуют разные ступени возвышения обыденного мышления и обыденной речи к художественному мышлению и речи: «…если станем задерживать в сознании ходячие понятия, которыми мы орудуем повседневно, то не замедлит обнаружиться художественный строй многих из них, состоящий в том, что они воплощаются в конкретные образы большей или меньшей типичности. Нетрудно видеть, что степень этой художественности наших понятий будет весьма и весьма различна, начиная образами очень тусклыми, несовершенными, случайными и кончая такими, которые по праву могут быть названы художественно-типичными» [3, с. 86].
Элементы художественности в обыденном мышлении мы также можем видеть в «неписанном дневнике», который ведется в душевной жизни каждого человека: «Лишь только начнем думать о себе, о близких, о людях вообще, о разных обстоятельствах нашей жизни, лишь только начнем погружаться в воспоминания о прошлом, – сейчас же вынырнут в нашем сознании образы, на этот раз не ускользающие, а нарочито задерживаемые в мысли, и эти образы сгруппируются в целые картины жизни. При этом мы не будем безучастными и случайными зрителями этих картин: они, несомненно, будут окрашены в известные настроения, с которыми мы их созерцаем, они вызовут в нас ряд различных чувств, натолкнут нас на новые мысли, даже могут привести нас к какому-либо общему воззрению на жизнь, на окружающую среду, на людей, с которыми мы сталкивались, на себя самих. На этом пути подымутся и некоторые вопросы нравственного сознания. Заговорит совесть и новые, может быть, неожиданные чувства. Зашевелится грусть, навернется слеза, или вдруг промелькнет ирония, послышится смех» [3, с. 89]. Это своего рода элемент, отрывок из «романа», набросок «поэмы». И тут видны субъективность и экспериментальность творчества. Они проявляются в том, что человек по большей части интересуется собой, своими интересами, что он сроднился со средой, в которой вращается и поэтому о других судит по себе и по тем людям, с которыми находится рядом, общается, не принимая во взгляд то, что все разные и поступают и ведут себя тоже по-разному. Отсюда можно сделать вывод, что обыденное «творчество» связано с творчеством художником-экспериментаторов, но разница в том, что обывательская экспериментальность, в отличие от художественной, ненарочная, непроизвольная.
Д.Н. Овсянико-Куликовский говорит, что существует тесная психологическая связь между художественным творчеством и обыденным житейским мышлением: основы первого даны в художественных элементах второго. Обыденное мышление, по мнению ученого, реалистично. Его художественные элементы «взяты непосредственно из действительности и отличаются конкретностью, индивидуальностью. Они воспроизводят действительность … просто и безыскусственно» [3, с. 94]. Если взять любой образ из сферы нашего обыденного мышления, задержать его в сознании и подвергнуть дальнейшей разработке, то из обыденно-художественного образа может возникнуть художественный. Тогда возникает вопрос: в чем отличие художественного образа от обыденного? Важнейшее отличие в том, что «первый, оставаясь индивидуальным, в то же время типичен, между тем как второй по преимуществу индивидуален, и в нем черты типичные заслонены иными, нередко случайными или совсем не характерными». Задача художника, по Д.Н. Овсянико-Куликовскому, сводится к очистке обыденных образов от случайного и к усилению типических черт. Но часто говорят, что «образ, созданный художником, становясь общим достоянием, опошливается» [3, с. 101]. Доля правды здесь есть, ведь каждый по-своему, в зависимости от умственного и нравственного развития и жизненного опыта, понимает творение художника, будь это хоть литературное произведение, хоть картина, хоть скульптура. Здесь мы как раз и видим подтверждение тезиса о психологической связи между образами настоящего искусства и теми, которые принадлежат нашему обыденному мышлению: первые мы воспринимаем вторыми и в зависимости от качества последних или «опошляем» первые, или усваиваем как следует, не портим их.
Но есть произведения, которые никогда не опошливаются, потому что в них нет этой психологической связи, так как они взяты не из действительности, а полностью придуманы сочинителем. У таких произведений нет доступа в сферу обыденного мышления, поэтому не только не опошляются, но и ничего, кроме эффектного зрелища, не дают. Такие произведения ученый назвал «мертвыми».
Д.Н. Овсянико-Куликовский говорит, что образы, которые входят в состав понятий, не просто образы, а образы-слова, то есть наше мышление не бессловесно, как может казаться. Бывают случаи, когда мы хотим что-то сказать, понимаем и видим в сознании образ, но не можем вспомнить его словесного выражения. Это так называемая нормальная афазия. И вот такие случаи служат подтверждением тезиса, что человеческая мысль должна быть словесной.
Связь обыденного с художественным дана в языке, в речи: «Язык изобилует художественными элементами, и обыденные понятия преобразуются в художественные образы не иначе как через посредство слова» [3, с. 105].
Слово, по Д.Н. Овсянико-Куликовскому, бывает прозаическое и поэтическое. Прозаическое – обычное, повседневное; поэтическое – такое, где понятие или представление сохраняет образность: душегрейка, незабудка, подсолнечник. В прозаическом образность стерта: «говоря «медведь», мы обычно не держим в мысли образа, данного в этом слове («животное, которое ест мед = меду ед), а перстень не заставляет нас вспомнить о слове перст, от которого оно произведено» [3, 108].
Многие прозаические слова ранее были образными, но с течением времени образ превратился в отвлеченное понятие, а освободившаяся энергия могла использоваться для нового мыслительного процесса. Последовательное преобразование поэтического слова в прозаическое отвечает закону восприятия – экономии психической энергии. Ю.В. Манн видит здесь опасность непозволительного сближения сфер мышления и искусства, так как известно, что «развитие художественных форм … не всегда происходит по закону экономии: гротескные, метафорические, символические построения … искусства требуют как раз повышенной затраты энергии, в том числе и интеллектуальной».
Наряду с утрачиванием образов идет процесс создания новых образных слов. Основные виды образных слов – тропы: метафора, синекдоха, метонимия.
В метафоре суть дела в «сравнении двух представлений или понятий … и в утилизации признаков другого» [3, с. 113], то есть если мы говорим «у него железный характер», то понимаем, что значение слова «железный» перенесено от представления твердости железа к представлению твердости характера и как бы убираем те черты, которыми можем характеризовать эту твердость – сильный, волевой, непоколебимый и т.д., заменяя одной чертой – «железный».
Синекдоха состоит из нескольких разновидностей. Мы можем употребить часть чего-либо вместо целого, например, «крыша» вместо «дом», а можем обозначить группу по индивидууму, например, «гамлеты», «плюшкины».
Метонимия – это прием обозначения предмета через указание на место, где он находится, на время, к которому он приурочен, на его атрибут, на его деятельность. Например, мы говорим «ложи и партер аплодировали», подразумевая, что аплодировали зрители, сидящие в ложах и партере.
Итак, можно сделать вывод, что образные, художественные элементы языка «являются, в экономии нашего мышления, орудием сбережения умственной силы» [3, с. 118].
С детства мы усваивали язык, богатый тропами, и поэтому те метафоры, к которым мы прибегаем в обыденном нашем мышлении, возможны потому, что, «владея языком, который сам богат метафорами, мы изощрили в себе способность орудовать этим приемом мысли – уже независимо от того, имеется ли в языке или нет соответственная метафора для данного случая» [3, с. 119].
Мы пришли к выводу, что высшее художественное творчество – то же обыденное художественное мышление, только усовершенствованное и возведенное на высшую ступень. Вместе с тем мы должны признать и тесную связь высшего творчества с языком: «высшее творчество есть функция обыденной художественности нашего мышления, а эта обыденная художественность есть, в свою очередь, функция художественных элементов языка» [3, с. 106]. В связи с этим рассмотрим вопрос о психологических отношениях художественного творчества, как обыденного, так и высшего, к языку.
Эти отношения неодинаковы: обыденное творчество стоит гораздо ближе к языку, чем высшее; их воздействия друг на друга гораздо теснее и вместе с тем проще, «обыденнее», чем взаимоотношения между языком и высшим искусством.
Мы, обыватели, свободно пользуемся сокровищами нашего языка. Если мы употребляем какое-либо слово, то оно и является окончательным выражением нашей мысли, в то время как у художников дело обстоит иначе. Слова, которыми они пользуется в процессе мышления, не являются окончательным выражением мысли. Если художник воспользуется первой попавшейся метафорой, которая пришла ему в голову, он скоро заметит, что она недостаточна для выражения его мысли. Ему приходится искать все новые и новые слова для ее словесного выражения. Именно этот процесс – процесс поиска слов – называется «муками слова».
Психология «мук слова» у художников станет нам понятнее, когда мы сопоставим ее с аналогичным явлением в области нехудожественной высшей мысли: метафизической и научно-философской. Ее называют прозаической мыслью. Сейчас нам предстоит выяснить ее происхождение.
Когда образ, связанный с обыденным понятием, не задержался в сознании, а быстро исчез, то мысль, в которой он промелькнул, называется нехудожественной, или прозаической, так как образ не осуществился. Следовательно, прозаическая мысль не основана на образе, в отличие от поэтической.
Если мы пойдем в этом направлении дальше и будем искусственно усиливать отвлеченность понятий, то перед нами предстанут научные понятия, которые по существу своему лишены всякой образности и являются высшим выражением «прозы мышления».
Если, наоборот, начнем усиливать образность и она станет распространяться на все понятие, то получим типичность, то есть станем воспринимать какое-либо ранее обыденное понятие как художественный образ. Это – высшее выражение «поэзии мышления».
Отношения между «прозой» в высшем выражении и обыденной «прозой» сложные; они сложнее даже, чем отношения между «поэзией» высшей и «поэзией» обыденной: высокая поэзия стоит значительно ближе к «обыденно-художественному» мышлению, чем наука – к «обыденно-прозаическому».
История указывает нам на происхождение некоторых наук из повседневной жизнедеятельности человека: ботаника – из огородничества, геометрия – из землемерия. Здесь можно сказать, что научная «проза» выросла из обыденной. Но если взять Эвклидову геометрию или геометрию Лобачевского, то становится видна пропасть между этими «прозами». Такой пропасти между искусством и обыденно-художественным мышлением нет.
Нередко бывает, что научное мышление пользуется обыденно-художественными элементами речи, например, в естествознании есть термины, носящие характер тропа: «сила», «энергия», «работа», «тело» и т.д. Тропы – элементы «поэзии», следовательно, научное мышление не может пользоваться только «прозой».
Но то же самое можно сказать и о «поэзии». Д.Н. Овсянико-Куликовский говорит: «Никакое искусство не обходится без участия прозы языка и обыденной мысли. Художник не может мыслить исключительно образами. Поэтическая речь-мысль отнюдь не состоит из сплошных тропов. Можно бы, выражаясь метафорически, сказать, что «ткань» высшей поэзии образуется из хитросплетенных нитей как поэтического, так прозаического производства речи-мысли. И в «лаборатории» художественного творчества мы сплошь и рядом встречаемся с загадочным процессом превращения самой обыкновенной, самой «пошлой» прозы языка и мысли в высокую, в чистейшую поэзию художественных образов» [3, с. 121].
Превращение обыденной «прозы» в высшую «поэзию», в художественный образ, является более легкой задачей, чем преобразование той же обыденной «прозы» в высшую: «Создание того или другого научно-философского слова-понятия обходится так дорого, как не обходятся самые высокие и сложные образы искусства» [3, с 121]. Гораздо легче примеры обыденной «прозы» трансформировать в какие-либо образы, чем эти же примеры – в какое-нибудь научное понятие, термин.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на «житейское» (например, из ремесла) происхождение некоторых отраслей научного знания, можно утверждать, что «наука и философия, как форма или система мысли, как особый тип мышления, как особый вид работы ума, возникли не из житейской практики, не из обыденного мышления» [3, с. 122]. Они имели более «благородное», «высокое» происхождение.
Две «прозы», обыденная и научно-философская по своим целям оказываются диаметрально противоположными. Это – два весьма различные «состояния сознания». Раз одно мешает другому, то есть они не ладят друг с другом, то и создание высшей «прозы» сопряжено с «муками мысли». В «поэзии» есть аналогичное явление.
Чтобы понять, откуда взялись эти «муки», нужно уяснить, что ни «высшей прозы», ни «высшей поэзии», ни обыденного мышления не существует вне индивидуального сознания, то есть когда мы говорим «философия», «наука», «поэзия», мы должны помнить, что в действительности их нет, есть люди, которые мыслят философски, научно, художественно. Но любой человек, мыслящий научно, философски, художественно – обыватель, и, следовательно, мыслит прежде всего приемами обыденного мышления. При столкновении высшего мышления с обыденным «муки» мысли и творчества возникают сначала в сознании; эти муки – факт раздвоения личного сознания на сознание обывателя и сознание художника. И теперь возникает вопрос: какая половина личности больше страдает от этого – обывательская или художественная? Д.Н. Овсянико-Куликовский отвечает так: «Начинает страдать первая половина личности – муки мысли и творчества испытывает сперва не мыслитель, не художник, а обыватель, в котором пробудился и зреет мыслитель или художник» [3, с. 124].
Есть личности, в которых «обывательское» очень мало. Их ученый называет «цельными натурами». У них этот перелом, это «раздвоение» совершается довольно быстро и легко, не вызывая заметной реакции. Они никогда не мыслят шаблонно: они этого попросту не умеют. К таким личностям Д.Н. Овсянико-Куликовский относит Спинозу, Канта, Сократа.
А есть такие личности, в которых художник не устраняет обывателя, и они сосуществуют, поочередно «перетягивая на себя одеяло», то и дело переходя от высшей деятельности к низшей, рутинной, и обратно. К этому типу ученый относит юного А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
Итак, существенное различие между натурами этого рода и «цельными натурами» состоит в том, что первым при каждом «пробуждении» к творчеству приходится переживать муки сомнений в себе, в своих силах, между тем как у вторых этот момент либо совсем отсутствует, либо доведен до минимума.
Д.Н. Овсянико-Куликовский выделяет два метода в искусстве: наблюдательный и экспериментальный, но « … экспериментальный метод … Овсянико-Куликовский не противопоставляет резко и категорично другому методу – наблюдательному» [4, с. 50].
Ученый говорит, что мы, обыватели, можем иногда возвышаться до должного понимания творческой мысли великих поэтов, но при одном условии: нам должен быть ясен тот путь, которым шел поэт. А знать этот путь нужно, чтобы мы не ошиблись в определении метода его художественного познания, то есть распознали, чем является художник в данном произведении: наблюдателем или экспериментатором.
Художник-наблюдатель стремится дать по возможности беспристрастное, полное, широкое и правдивое воспроизведение действительности, чуждаясь преувеличения и намеренного искажения одной стороны в угоду другой; дать такое освещение явлениям, какое они имеют в самой жизни. К «наблюдательному роду» ученый относит творчество «не только Пушкина, но и таких писателей, как Лермонтов («Герой нашего времени»), Гончаров, Тургенев, Писемский, Л. Толстой (исключая его «морализующие произведения», «Крейцерову сонату» и др.)» [1, с. 371].
Произведения экспериментального художественного творчества сложно поддаются нашему пониманию именно потому, что почти всегда настроения художников-экспериментаторов мрачны, безотрадны, исполнены душевных мук, а это то, к чему мы чувствуем отвращение.
В художественных экспериментах большую роль играет смех, и не всегда мы улавливаем всю горечь этого смеха.
Одно и то же явление жизни может быть предметом и опыта, и наблюдения. Но опыт связан с известными настроениями, с определенным порядком дум и чувств, каких не требует наблюдение. Насколько произведение для нас осталось непонятным, настолько мы не прониклись этими самыми думами и чувствами.
Опыт – разновидность наблюдения, и творчество художников-экспериментаторов основывается на тщательных, наблюдениях над жизнью. Но если бы у них не было готового материала наблюдений в произведениях художников-наблюдателей, то вряд ли они бы справились со своей задачей, считает Д.Н. Овсянико-Куликовский. Познание правдивой картины действительности – отправная точка экспериментального творчества. К «экспериментальному роду творчества» ученый «относит, кроме Гоголя, таких художников, как Салтыков-Щедрин, Достоевский, Гл.Успенский, Чехов» [1, с. 371-372].
Девиз эксперимента в искусстве – «мыслить и страдать», девиз творчества наблюдательного – «мыслить». Этим, по словам ученого, «определяется как прямая задача, так и основные черты психологии наблюдательного искусства. Его цель – познание человека, анализ души человеческой, раскрытие психологии взаимоотношений между человеком и обществом, постановка и разработка вытекающих оттуда нравственных задач, равно как и проблемы счастья» [3, с. 132].
«Нетрудно заметить, – говорил Ю.В. Манн, – что обе категории подразумевают как процесс художественного творчества, так и его результат» [2, 13]. Писатель идет к цели путем наблюдения или эксперимента; этот путь «запечатлевается в самой его манере» [2, 13].
Ю.В. Манн считает, что доля истины в этой классификации есть, ведь мы отличаем, пусть и не с абсолютной определенностью, произведения сатирического и гротескного характера. Но все-таки в качестве универсальной классификация не может действовать, так как не согласуется с реальным многообразием искусства.
Мы, обыватели, в нашем обыденно-художественном мышлении «являемся по преимуществу экспериментаторами, а не наблюдателями» [3, с. 139], а наши опыты – непроизвольны, случайны. В задачу нашего человечного воспитания входит требование отказаться от этих «доморощенных» экспериментов и заменить их иными. Но без расширения кругозора, воспитания чувства, то есть без всего того, что дает нам «школа» высшего наблюдательного искусства, это сделать невозможно. «В этой школе мы учимся быть людьми, и высшие человеческие страдания становятся доступны нам», – пишет Д.Н. Овсянико-Куликовский [3, с. 143-144].
Библиографический список
- Академические школы в русском литературоведении / под ред. П.А. Николаева. М., 1976.
- Манн Ю.В. Тургенев и другие. М., 1989.
- Овсянико-Куликовский Д.Н. Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве (к теории и психологии художественного творчества). М., 1989.
- Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д.Н. Овсянико-Куликовский. М., 1981.
- Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.