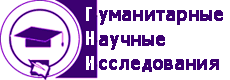Предлагаемая работа продолжает исследование проблем, связанных с функциями рефлексии в литературе и культуре, начатое в предыдущей нашей статье, которая была опубликована в октябрьском номере данного журнала [Ибатуллина, 2013]. Характеризуя ряд значимых аспектов рефлексийной поэтики и эстетики в искусстве и литературе, мы отметили некоторые сущностно-важные моменты в понимании феномена художественной рефлексии. Здесь нам кажется целесообразным изложить ряд выводов, полученных в результате анализа рефлексийных структур в поэтике художественного произведения и уточняющих представления о структуре рефлексии в целом – рефлексии как особого механизма осознания, без которого немыслимы процессы развития духовной деятельности человека не только в искусстве, но и в других сферах. Отметим, что понимание значимости феномена рефлексии в процессах культуротворчества и жизнедеятельности человека отражено во множестве научных исследований последних десятилетий, причем, в самых разных областях (см., например, публикации в журнале «Герменевтика в России», посвященном проблемам понимания и рефлексии: [Hermeneutics]; работы Г.И. Богина [Богин, 2001], В.А. Лефевра [Лефевр, 1990], М.К. Мамардашвили [Мамардашвили, 1992], Ю.А. Шрейдера [Шрейдер, 1990] и др.). Однако существующие концепции, объясняющие структуру рефлексии, неоднозначны и не обрели своей законченности. Развиваемые здесь положения – еще одна гипотетическая модель, описывающая смысловые уровни рефлексийного сознания.
Начнем с уточнения исходных определений: когда речь идет о рефлексии, имеется в виду прежде всего понимание именно актов понимания, процессов понимания, а не фактов как объектов понимания, хотя бы эти факты пребывали в сфере отраженной (а не материальной) реальности. Как только становящийся акт понимания гипостазируется в уже ставший факт, мы можем говорить о мышлении, о понимании чего-нибудь, но не о понимании как особом состоянии о-сознания. Когда мы говорим, что мы понимаем математику, мы можем иметь в виду, что понимаются математические факты (объекты и отношения между ними) – это еще первичный уровень отражения и к рефлексии «в высшем смысле слова» это не имеет отношения. Но если подразумевается, что мы понимаем математику как особую сферу понимания, осознания объектов и их отношений, обладающую иной логикой, нежели логика нематематическая, – это уже рефлексийный акт. Если я понимаю идеи Толстого о непротивлении злу насилием, это еще не есть собственно рефлексия, хотя идеи и имеют характер отраженной (но уже-отраженной) реальности. Если же понимаю понимание (акты понимания и их специфику) Толстым проблемы насилия и зла, то я уже включаю процессы рефлексии.
Как только понимание-осознание гипостазируется в факт: «он понимает это так: …», – оно перестает быть истинно пониманием. Если мы акцентируем внимание на самом процессе понимания: «он понимает это…» – мы генерируем информационно-энергетическое поле рефлексии. Здесь отчетливо видна связь процессов рефлексии и осознания с процессами актуализации возможного в действительное. Рефлексийное отношение (акцент на процессе, акте, а не на факте) оставляет незакрытыми иные возможности понимания, иные возможные акты. Акцент на факте приводит к тому, что сознание «присваивает» себе этот факт и далее отождествляет себя с ним; в результате сознание ограничивает свои возможности этим «знанием» мысли-факта, независимо от того, согласно оно с ним, или отрицает его. К примеру, можно принимать толстовские идеи ненасилия или «опрощения», можно отвергать их – и в том, и в другом случае сознание связано, ограничено идеей-фактом. Один из парадоксов человеческого познания в том, что многими знаниями (= идеями-фактами) сознание овладевает бессознательно, присваивая их себе помимо акта о-сознания, без актуализации процессов понимания того, что всякая мысль, идея, знание – продукт определенного способа «думания» (А.М. Пятигорский: [Пятигорский, 2004]) о мире. Если же сознание ориентировано прежде всего на осознание логики и смысла толстовского понимания, о-сознавания проблемы, оно обнаруживает и иные возможности и пути осознавания, тем самым обретая большую свободу и масштабность видения. Такова, например, логика художественной мысли, специфики изображения человека и мира в творчестве Достоевского; писателя интересует прежде всего сознание героя, внутренние смысловые конфигурации и топика этого сознания, а не просто те идеи-факты, которые им (сознанием) порождаются или в нем живут.
Итак, когда мы берем факты не просто как факты, но понимаем при этом, что они факты нашего сознания – это уже рефлексия.
Акт рефлексии есть такое о-сознание, которое может быть моделировано, отражено, познано средствами искусства – в отличие от иных форм расширения сознания. Катарсис, к примеру, невозможно моделировать, можно лишь моделировать ситуацию, способную породить катарсическое просветление и расширение сознания. Искусство порождает такие ситуации, но природа и механизмы катарсиса и для него остаются тайной (древнепоэтическая формула «очищение, просветление через сострадание» описывает катарсис, но не объясняет его). Именно поэтому даже самый гениальный художник не может создать ситуации гарантированного катарсиса – как универсальной модели внутреннего состояния каждого и любого зрителя, слушателя, читателя. Механизмы же рефлексии как системы отражений поддаются конструктивному моделированию, и не только в образных системах мышления и сознания, но и в чисто знаковых, свидетельством чему является теория рефлексии В.А. Лефевра (характерно, что исследователь предлагает математически выраженную формулу рефлексии [Лефевр, 1990, 25-32]).
На наш взгляд, история и логика становления культуры, и, прежде всего, художественной культуры, дают основания полагать, что количество уровней рефлексии, доступных человеческому сознанию, эквивалентно количеству измерений того пространственно-временного континуума, в котором оно пребывает. Поскольку мир человека существует в четырехмерном пространстве-времени, было бы вероятно ожидать, что смысловая парадигма рефлексийного сознания предполагает также четырехуровневый порядок рефлексии. Действительно, если мы вспомним описание рефлексийного акта, сформулированное языком повседневно-житейской психологии, оно звучит следующим образом: я понимаю (1), что ты понимаешь (2), что я понимаю (3). На первый взгляд, эта формула выделяет в акте рефлексии трехступенчатую структуру, однако здесь имплицитно задан и четвертый уровень; четвертая степень рефлексии принадлежит тому сознанию, которое рефлексийно конструирует данную трехступенчатую пирамиду уровней рефлексии; это сознание может принадлежать и «разработчику» конструкции (являющейся на самом деле не столько пирамидой, сколько восходящей спиралью), и воспринимающему ее адресату – «я» или «ты»; этим сознанием может стать и «он» – содержание рефлексийно-смысловой триады от этого уже не изменится; «я», «ты», «он» будут равномасштабны и равноподобны в своем понимании рассматриваемой спиралевидной пирамиды. Новая цепочка пониманий-рефлексий не увеличит количество ступеней уже замкнутой в смысловом отношении пирамиды-триады; в лучшем случае, рядом вырастет еще одна, равноподобная, пирамида. Поэтому в действительности «формула понимания» выглядит следующим образом:
4. Я понимаю, 1. что я понимаю,
(=ты понимаешь= 2. что ты понимаешь,
=он понимает) 3. что я понимаю.
Поиск следующего, «пятого» взгляда в смысловом плане ничего не прибавит ситуации понимания (имеется в виду качественно, а не количественно), ибо «пятый» в своем содержании неизбежно сольется с одним из уже существующих уровней. Попытка продолжить обозначенный ряд «снизу» (… что я понимаю, что ты понимаешь… и т.д…) приведет лишь к «дурной бесконечности» псевдорефлексии и породит эффект «сказки про белого бычка».
Цепочка само-взаимоотражений между Я и Ты аналогична базовой формуле рационально-логического мышления: тезис – антитезис – синтез; четвертым уровнем рефлексии здесь также будет сознание субъекта, конструирующего эту триаду. Отличие формально-логической триады от нашей пирамиды смысла (назовем ее герменевтической) в том, что первая развертывается, если так можно выразиться, горизонтально, в то время как вторая имеет вертикально-становящийся характер; более того, первую можно назвать горизонтальной проекцией «лестницы пониманий»[1]. Что это значит? Формальная логика здесь оперирует категориями содержания акта понимания (что я понимаю…); герменевтическая триада апеллирует к самому процессу и акту понимания (что я понимаю…); она предполагает, что отношения рефлексии невозможны как субъектно-объектные, это всегда отношения между субъектами, хотя каждый из субъектов в этой ситуации проходит фазу объективирования своего сознания и понимания (в этом, отметим, отличие рефлексийного сознания от связанно-мифологического, сплошь субъектного и так же тотально выстраивающего свои отношения с миром как субъектно-субъектные; здесь не нужна «лестница понимания», так как непонимание вообще исключается из мифологического универсума; мифологический субъект может чего-то не знать и получить это знание, но не может не понимать или не принимать мир и другого).
Поскольку рефлексия есть не просто отражение объекта, но отражение отражения другого субъекта, мы можем найти в языке еще вариант логической экспликации четырехступенчатой структуры рефлексии; логика языка дает нам возможность субстантивировать вышеприведенную формулу, благодаря чему мы отразим в ней действительное усложнение рефлексийно-иерархической цепи, а не простую тавтологизацию ее звеньев:
1. я понимаю
2. свое понимание
3. твоего понимания
4. моего понимания.
Логика языка не дает иных возможностей для наращивания рефлексийной цепи, избегая при этом семантических тавтологий, ничем не обогащающих смысловое целое формулы. Если мы попытаемся дополнить ряд: «его понимания» (или «их…»), – мы выйдем за пределы иерархии и начнем наращивать цепь не по вертикали, а в уже существующей горизонтали, то есть создадим новую ветвь, новое множество вместо обогащения уже имеющегося. Еще раз отметим, что в ситуации самоотражения и взаимоотражения двух субъектов возможны лишь обозначенные четыре уровня; собственно говоря, и смысловые парадигмы естественных языков предполагают возможность существования именно четырех разных субъектов сознания: я, ты, он, они (мы = я + ты; вы = ты + он, они). Необходимость введения в нашу формулу возвратного местоимения тоже кажется не случайной: исчерпывающая полнота рефлексийных актов невозможна без ситуации само-отражения.
Если мы обратимся за аргументацией не к логике повседневно-психологического или языкового сознания, а к логике рефлексийных актов непосредственно в культуротворческом сознании, то обнаружим следующую типологически устойчивую ситуацию, характеризующую структуру рефлексии. К примеру, живописец создает картину; это есть первый уровень рефлексии, поскольку картина в качестве условия своего полноценного бытия как художественного произведения предполагает, что художник не просто копирует («фотографирует») реальность, но моделирует (отражает) на холсте некую модель (отражение) реальности, уже существующую (сознательно или бессознательно) у него в голове. Зритель, созерцающий картину и получающий от нее некое собственное впечатление, соответственно осознает (отражает) не просто зафиксированную на картине реальность, но то понимание реальности, которое вложил в изображение художник; при этом зритель инкарнирует в своем сознании ту же структуру рефлексии, а не создает новую ее ступень. Критик-искусствовед, анализирующий в своей статье не только модель художника, но и ее адекватность другим моделям, и логику рождения этой модели – следующий, второй уровень рефлексии. Теоретик искусствоведения, философ-эстетик, исследующий логику восприятия искусствоведом логики художника и зрителя – третий уровень рефлексийного абстрагирования реальности, порождающий методологическую базу искусствоведения[2]. Субъект сознания, в данном случае автор этой статьи и ее читатель, осмысляющий выстроенную здесь рефлексийную цепочку, – соответственно, четвертый уровень рефлексии. Собственно говоря, здесь мы занимаемся философией сознания, поэтому можно сказать, что философ, анализирующий внутренние логические основания и принципы той или иной методологии, в том числе, методологии искусствоведения, определяющий ее онтологические координаты и вписывающий ее в онтологически значимые смысловые парадигмы, претендующие на тотальную объективность, являет в своих изысканиях четвертую степень рефлексии. При этом он парадоксально возвращается к смысловым координатам первого уровня, но уже на ином витке их осознания-экспликации, поскольку первичные интенциональные цели художника также онтологичны, но существуют как имманентно заданные в творческой интуиции, а не как данные сознанию. На сегодняшний день в культуре не существует пятого уровня абстрагирования, который выполнял бы роль метауровня по отношению к четырем названным.
Если мы теперь обратимся к внутренней логике самого художественного сознания, а не к логике его функционирования в пространстве культуры, то увидим существование аналогичной четырехступенчатой пирамиды рефлексии. Так, исследование поэтики чеховской прозы привело к выводам, подтверждающим данный тезис. Особенно репрезентативна в отношении принципов образотворчества и законов жанровой поэтики, основанных на логике рефлексийных отражений, повесть Чехова «Черный монах». В художественной системе повести (а художественный мир произведения, как отмечалось, это уже первая ступень рефлексии) мы обнаруживаем в качестве объекта изображения, т.е. в качестве объекта художественного исследования и осознания, следующую рефлексийно-иерархическую цепочку: действительность – миф – трагедия – мистерия – система чеховского произведения. Жанровый эйдос трагедии осознается в мире Чехова как форма рефлексийная по отношению к мифу, а эйдос мистерии – как форма художественно рефлексийная по отношению и к мифу, и к трагедии. Поэтика чеховского текста такова, что она обращает в предмет художественной рефлексии не только живущую в культуре жанровую парадигму (миф – трагедия – мистерия), но и самое себя как завершающий структурно-смысловой элемент этой парадигмы, исчерпывающий потенции рефлексийного осознания и открывающий возможность выхода за его пределы: в сферы сознания трансгредиентные (или метарефлексийные, пограничные) сфере рефлексийного мышления, и далее – в сферы сознания трансцендентного, т.е. инобытийного по отношению к любому пребыванию и становлению сознания в каких-либо формах и границах. Благодаря этому текст Чехова не позволяет воспринимать его как миф и погружаться в него как в миф, гипостазируя отраженные им акты рефлексии в факты художественного мира[3]. Есть тексты, мифологизирующие их восприятие (т.е. содержащие в себе коды мифологизации), таковы, к примеру, «Капитанская дочка» Пушкина, или «Полинька Сакс» А. Дружинина и множество других; существуют и тексты, ориентированные на откровенную и тотальную демифологизацию сознания, таковыми являются целые жанры – пародия, эпиграмма и т.п.; есть тексты, живущие на границах этих двух взаимонаправленных процессов – реинкарнации мифа и разрушения мифа; характерный пример – творчество Достоевского, Лескова; Чехов – за пределами процессов мифологизации и демифологизации, на позиции, позволяющей осознать эти процессы и обрести возможность полной свободной вненаходимости по отношению к ним.
Здесь, может быть, следует сделать оговорку: филолог, исследующий и осознающий четырехступенчатые рефлексийные структуры в системе поэтики Чехова (или любого другого художника) не создает следующего метауровня (пятого), поскольку акты художественной рефлексии в данном случае гипостазируются им внутри чеховского мира как факты этого мира. Условно говоря, он (исследователь) находится на границе последнего, четвертого уровня, в ситуации (позиции) трансгредиентности к чеховскому миру, которой весь в целом как факт и как данность становится первым объектом рефлексии уже в иной парадигме метаязыков – гносеологических, а не художественно-изобразительных; о структуре этой иерархии выше мы уже тоже говорили.
Любопытен и знаменателен как пример четырехмерности рефлексии тот факт, что А.С. Пушкин в «Повестях Белкина», желая художественно мифологизировать и структурировать в сюжетную последовательность сам процесс текстопорождения, также определил эту структуру как четырехуровневую. Текст каждой из повестей цикла, прежде чем стать достоянием читателя, проходит четыре инстанции, так что события, о которых идет речь, находят отражение в четырех различных системах сознания. На первый взгляд, этих инстанций лишь три: издатель А.П.; автор-повествователь И.П. Белкин; «разные особы», от которых слышал Белкин рассказанные истории. Однако логика повествования этих историй ясно говорит о существовании еще одной «отражающей» инстанции, без которой превращение сырого фабульно-эмпирического факта в факт литературный было бы невозможно. Дело в том, что «разные особы», могли рассказывать лишь уже слышанные ими истории от непосредственных участников событий; они получили события и факты уже в интерпретированном, а не в «сыром» виде. В двух повестях цикла – «Выстрел» и «Станционный смотритель» – существование четвертого (вернее, первого) рассказчика непосредственно открыто читателю. Повествование в обеих повестях ведется от первого лица, от лица «особы», являющейся и участником событий, однако это участие косвенное и фактически «внесюжетное» (в контексте метасюжета текстопорождения, реализованного в пушкинском цикле, оно оказывается на самом деле лишь «внефабульным», но сюжетно значимым). И «титулярный советник А.Г.Н.» («Станционный смотритель») и «подполковник И.Л.П.» рассказывают не о своем, а о чужом сюжете, наблюдателями (и интерпретаторами) которого они оказались волею судьбы. Более того, они не просто рассказывают о событиях свидетелями и участниками которых они оказались, но выслушивают и пересказывают истории, полученные от непосредственных участников этих историй. Так, «подполковник И.Л.П.» в «Выстреле» рассказывает историю, слышанную им сначала от Сильвио, а затем от его противника. Рассказ «титулярного советника А.Г.Н.» повествует о событиях, рассказанных ему самим Самсоном Выриным, а о финале, завершающем историю Дуни, он узнает со слов мальчика Ваньки.
Таким образом, можно сказать, что и в данном случае структурирование процесса вхождения читательского сознания в «миф текстопорождения», как и выход из этого мифа, предполагает четыре ступени рефлексийного движения. Сам художник, как показал М.М. Бахтин, необходимым образом должен быть трансгредиентен тому смысловому миру, который он моделирует, пребывая на его границе. Однако эта вненаходимость может быть в разной степени осознана им самим, и, во-вторых, с разной степенью осознанности отражена в моделируемом мире, в системе создаваемого произведения. У Пушкина «вненаходимость» автора полностью не только осознана и эксплицирована, но даже, можно сказать, художественно транскрибирована в образах рассказчиков. Однако в иных случаях мы найдем иные ситуации реализации авторского самосознания в тексте; развитие художественного мышления и сознания непосредственно взаимообусловленно с увеличением уровней и степеней его способности к рефлексии, о-сознанию и само-осознанию, но это движение и развитие, конечно, не является линейно-хронологическим или элементарно-последовательным: система авторского сознания в пушкинском творчестве предполагает рефлексию гораздо более высокого порядка, чем та, которую мы чаще всего находим во всей остальной постпушкинской литературе.
[1] Ср. с «лестницей метаязыков» – понятием, введенным польским математиком А. Тарским.
[2] Здесь, на наш взгляд, следует сделать оговорку: модель пирамиды рефлексий и путей ее воплощения в культуре предлагается как экспериментальная и носит гипотетический характер, что подразумевает возможность ее дальнейшей «реконструкции». В одной из предыдущих наших работ [Ибатуллина, 2011]эта модель выглядела несколько иначе и подверглась частичной переработке в диалоге с Б.Ф. Егоровым, но общая логика «пирамиды» сохранилась. Возможны и новые уточняющие трансформации, так как проблема слишком сложна, чтобы быть решаемой одномоментным усилием. Поэтому кажется целесообразным и объективным упомянуть, что, по мнению Б.Ф. Егорова, разведение «искусствоведа» и «эстетика» как разных субъектов рефлексии выглядит неубедительным: «Все-таки один уровень. Метауровень над ними возможен, но термин не придуман» (цитата из письма Б.Ф. Егорова»).
[3] См. об этом подробнее: [Ибатуллина, 2006].
Библиографический список
- Hermeneutics in Russia / http: //www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/…
- Ибатуллина Г.М. О смыслопорождающей роли рефлексии в контекстах литературы и культуры // Гуманитарные научные исследования. Октябрь 2013. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/10/3963
- Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в филологическую герменевтику. М.: Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001. 516 c.
- Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души // Вопросы философии. 1990. №7. С. 25-32.
- Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 303с.
- Шрейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания // Вопросы философии. 1990. №7. С. 42-50.
- Пятигорский А.М. Непрекращаемый разговор. СПб.: Азбука-Классика, 2004. 432с.
- Ибатуллина Г.М. «Магический кристалл»: рефлексия в поэтике художественного текста. Монография. Гамбург: Международное научное издательство LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011г. 450с.
- Ибатуллина Г.М. Человек в параллельных мирах: художественная рефлексия в поэтике чеховской прозы. Стерлитамак: СГПА, 2006. 201с.