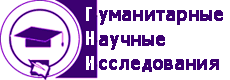Работа выполнена по гранту РФФИ № 19-012-00261
Обращение И.В. Киреевского и А.С. Хомякова в религиозно-философских исканиях к святоотеческому наследию рассматривается здесь как мотивированное поисками религиозно-философского синтеза. У Киреевского, речь идёт о том, что наряду с естественным состоянием ума, в котором сущностные силы человека могут быть разделены, возможно и глубинное, внутреннее состоянии ума, в котором отдельные силы и способности человека объединяются в умозрении. Эти размышления Киреевского и аналогичные воззрения Хомякова можно связать со святоотеческим учением о человеке внешнем и внутреннем. Сохраняет ли синтетический потенциал этих учений свою значимость и сегодня? Вопрос может быть сформулирован и иначе, имеет ли богословский дискурс (а не только христианское вероучение) значение для философской рефлексии; можно ли именно в богословской схеме увидеть ход мысли – синтетическую схему, значимую и для философии (религиозной философии)?
Дело, таким образом, не только в том, что святоотеческая традиция становится объектом исследовательского интереса в творчестве Киреевского и Хомякова, но и в том, что в святоотеческой традиции оба мыслителя находят принципы, значимые для религиозно-философской (философско-богословской) рефлексии. Вопрос соответственно в том, что это за принципы, схемы и какое значение они имеют в религиозно-философском (философско-богословском) дискурсе.
В контексте рассмотрения философских трактовок святоотеческого наследия целесообразно обращение к проблематике оппозиции западно-христианской и восточно-христианской (византийской) традиций, неизбежно связанной со схизматическим спором, в особом ракурсе сопоставления двух типов христианской культуры, как спора о предпочтительном типе христианской культуры. Можно прибегнуть к образу сравнения позиций двух верующих – духовно опытного и менее духовно опытного. Понятно, что предпочтительнее позиция первого. Какая же из сравниваемых традиций в большей мере духовно умудрённая и опытная восточно-христианская или западно-христианская (включая её современных наследников)? Здесь могут быть приведены различные аргументы. Важен и вопрос о критерии этой духовной опытности. Косвенный аргумент – в эпоху средневековья в истории западно-христианской цивилизации были «темные века», а в истории Византии их не было, т.е. не было прерывания цивилизационной традиции с неизбежной утратой наиболее сложных и тонких смыслов.
Одним из наиболее значительных явлений средневековой западно-христианской традиции стала схоластическая религиозно-философская традиция. В качестве восточно-христианского аналога западноевропейской схоластики в известной мере можно рассматривать святоотеческую традицию. Идейной встречей, полемическим пересечением этих традиций стали паламитские споры. Характерно, что местом этих споров стала Византия, которая, таким образом, оказалась в большей мере восприимчива к сути этих споров, в сравнении со странами западно-христианской традиции.
Должны ли интересы веры не только соотноситься с разумом, характеризоваться в свете разума, и в этом смысле сочетаться с разумом, но и определяться возможностями разума первоначально в схоластике в «положительном» смысле, когда стремились доказать часть истин веры, а, затем, при опоре на новоевропейский теоретический разум, в «отрицательном» смысле, т.к. теоретический разум неспособен обосновывать истины веры в объёме метафизического разума?
Другими словами, действительно ли, в конечном счёте, в нашей ориентации мы должны двигаться в границах гносеологически разумно возможного, а сумме доступного человеку знания следует придавать вид разумной системы, либо выдвигается иной принцип, что для познания в той же мере, в какой необходимо пробуждение разума, необходима и жизнь в вере, онтологическое преобразование человека в вере, что означает, не только накопление внешнего знания, но и опыт жизни в вере?
Соответственно проблематику веры недостаточно рассматривать только в гносеологическом ракурсе проблемы соотношения веры и разума. Ее следует рассматривать и в связи с практиками веры в антропологической (субъектной) онтологии. Помимо проблемы одностороннего (гносеологизированного) рассмотрения веры, что является ошибкой не только познавательной, но и онтологической, экзистенциальной, что косвенно, а, возможно, и не только косвенно, готовило почву для «замещения» веры разумом, в западно-христианской культуре формировалась совокупность «смещённых» позиций типа противостояния рационалистически ориентированной латинской схоластики и иррациональной католической мистики, что, по сути, означало перманентное наступление на позиции веры с двух сторон, и со стороны разума, закономерно пребывающего в состоянии постоянной самокритики (и в результате, при определенных исторических условиях, эволюционирующего в направлении теоретического разума), и со стороны мистицизма, в частности, выступавшего в форме мистического варианта гностицизма, способствовавшего подъёму философского пантеизма (Якоб Бёме и др.). Рассмотрению целой исторической системы этих «смещений» и деформаций много внимания уделял И.В. Киреевский. [2, С.248-332 и др.]
Именно в Византии возникла почва для сочетания наук внешних и внутренних, принципов рефлексии и духовной жизни, соответственно особого варианта сочетания разума и веры, при котором вера не выступала в ущербном «гносеологическом» ракурсе. Западно-христианская традиция парадоксальным образом содействовала подготовке почвы для новоевропейской секулярной цивилизации. По крайней мере, отчасти, это происходило потому, что в западноевропейской традиции не удалось найти в структуре человеческого знания «равновесия» веры и разума, наук внешних и внутренних.
Пример философии Фомы Аквинского, в которой, как утверждают, было достигнуто равновесие разума и веры мало убедителен, ибо, что это за равновесие, если оно уникально и неустойчиво, кроме того, в системе Фомы Аквинского вера рассматривалась в гносеологическом ракурсе как источник сверхразумных истин (что само по себе правильно), но не онтологически и практически как основа духовной жизни человека.
Но не утратила ли значение вся эта проблематика? Это было бы так, если бы исполнился прогноз просветителей об отмирании религии в результате прогресса разума. Однако традиционные религии, хотя и в крайне ослабленном виде, в западном мире сохраняются. В этой связи в общем плане можно сказать, что в отличие от архаической формы коллективного человека становление индивидуализированной формы человека, включая и тип современного человека, обусловило возникновение мировых религий, и можно полагать, что индивидуализированная форма человека не может воспроизводиться вне мировых религий как сущностно антропологически ориентированных.
Вопрос, таким образом, не столько в том, будет или не будет возрождаться интерес к мировым религиям. Скорее всего, будет, и сегодня этому есть свидетельства: возрождение православной церкви в России, заметное оживление религиозной жизни в Польше, исламское возрождение в мире и др. Но, в таком случае будет актуальным вопрос, в какой форме должно осуществляться это возрождение в восточно-христианском мире? В тех ли формах, которые парадоксальным образом вносили вклад в формирование почвы секулярной цивилизации, или в иных? Не получится ли в первом случае тот же результат? И не пришло ли время в таком случае обраться к учениям византийской православной традиции как к духовно более зрелой?
Религиозно-философское и богословское переоткрытие синтетических образцов христианской мудрости в учениях святоотеческой традиции неслучайно, поскольку в учениях святоотеческой традиции был аккумулирован духовный опыт Византии, в которой в силу её уникальных цивилизационных характеристик сложился тип духовной и интеллектуальной жизни, который, в известном смысле можно назвать синтетическим.
Здесь нужно пояснить, что дело не в самой форме синтетизма (как известно, схоластическая философия явила даже более значительные синтетические образцы), но в типе синтеза. Если в западно-христианской схоластике тип синтетического соотношения разума и веры был того рода, что в нём вера как одна из центральных форм фигурировала преимущественно в поле гносеологических характеристик в сопоставлении с разумом, то в восточно-христианском варианте синтеза, на его высоте, необходимое соутверждение веры и разума осуществлялось в варианте двуединого синтетического принципа, в котором вера, а не разум признавалась основой христианской мудрости, и в этом смысле речь шла о примате веры над разумом, и в котором, с другой стороны, фактически (ибо до эксплицитного утверждения принципа дело не дошло) дело веры в известном смысле было сопряжено с делом разума, т.е. наряду с утверждением принципа сущностной опоры веры на саму себя и признания в этом смысле примата веры над разумом, утверждался принцип необходимого сопряжения с разумом само утверждающейся веры с тем, чтобы свет веры в иных отношениях, вне сущностных пределов веры, дополнялся светом разума, поскольку альтернатива последней установки – обыкновенное невежество, соответственно в целом опасны не только бездуховность, но и невежество.
Иные же примеры, показывающие моменты, когда византийское православие оказывалось не на высоте собственных возможностей, когда не просто разделялись и соотносительно устанавливались, но противопоставлялись науки внутренние и внешние, и последние отвергались, свидетельствовали о кризисных явлениях сужения сознания, утраты истинного понимания соотношения наук внутренних и внешних. Однако образцовой основой должны служить взлёты, а не падения.
Таким образом, сильной стороной схоластического синтеза было признание необходимости сопряжения разума и веры, а слабой – неверная компоновка этого сопряжения, поскольку, несмотря на утверждение иерархии этих начал, в этом соотношении разум преимущественно рассматривался как активное начало, а вера в её существе как начало более пассивное, вера преимущественно рассматривалась по модели рационального знания – так упускалась сущностная специфика «жизни в вере», поскольку назначение веры – не объяснение мироздания, но спасение человека и лишь в меру этого участие в объяснении мироздания.
Соответственно, далеко не случайна в дальнейшем в западно-христианском мире драма борьбы разума и веры, приведшая к тенденции постепенной, но неуклонной маргинализации веры, наряду с «иррационалистическим» сопротивлением веры разуму в католической мистике, что тоже неверно, поскольку одно сохраняется – сущность веры как веры, опора веры на саму себя, а другое – своего рода «взаимодополнительная» сопряженность веры и разума – теряется.
Видно, что «придумать» правильное соотношение в рассматриваемой сфере не так-то просто, первоначально оно имплицитно формируется в недрах христианской (восточно-христианской) традиции, а потом и эксплицитно осваивается. В отличие от традиции западно-христианской, в восточно-христианской в её взлётах имеет место и правильная трактовка веры в онтологическом и антропологическом контекстах, выстраивается верная иерархия веры и разума, имеет место сопряжение веры и разума.
Но и здесь были проблемы, в числе которых и недоформулированность некоторых важнейших положений, их только фактический характер (так, у Г. Паламы нет эксплицитно заявленного принципа сопряжения веры и разума, он лишь фактически положен в сочетании в его дискурсе планов веры, духовно-мистического и рефлексивного богословско-философского (с мотивами аристотелизма), т.е. в его творчестве оказываются совмещены принципы духовной традиции (исихазма) и богословско-философской рефлексии, и тот момент, что фактическое содержание традиции было шире её взлётов, кульминации. [7] Однако гибель Византии под ударами турок-османов привела к утрате византийского типа духовности, образованности, православной культуры с присущим им на высоте их возможностей сочетанием начал духовных и рефлексивных.
В средневековой Руси преимущественно усвоили основы византийского православия, а не византийский духовный и интеллектуальный синтез в полном объёме. Разумеется, на Руси узнали исихазм и глубоко усвоили эту традицию, но, по историческим обстоятельствам, вне сопряжения в едином культурном поле этой духовной традиции с изучавшимися в университетах внешними науками.
Переоткрытие темы византийского православия как актуальной для религиозно-философского и богословского поиска, начатое И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым и продолженное Г.В. Флоровским и его последователями, открыло пути развития для православного богословия и, в определённом смысле, для религиозной философии. Но обоснование, открытие этих перспектив, в свете которых стали лучше понятны и мотивы и темы творчества Киреевского и Хомякова, это уже заслуга Флоровского. «Сформулированная Флоровским богословско-философская программа неопатристического синтеза получила широкий резонанс и творческое развитие в трудах философов и богословов разных стран (Франция, США, Греция, Россия и др.) и фактически занимает лидирующие позиции в современном православии». [8, С. 6]
Рассматривая тему в историографическом аспекте, нужно отметить, что ещё при жизни Киреевского и Хомякова к их творчеству был проявлен заметный интерес. В классических трудах по истории русской философии В.В. Зеньковского и Н.О. Лосского, сохраняющих и поныне научное значение им посвящены и большие разделы. [1,16] Важное значение имеет труд Н.А. Бердяева о А.С. Хомякове.
Особый сюжет – и историографический, и содержательный это размышления Флоровского о творчестве Киреевского и Хомякова, наиболее полно изложенные в труде «Пути русского богословия». Здесь уместно сказать о двух моментах, о характеристике Флоровским творчестве Киреевского и о методологической установке Флоровского, которой он придерживался в указанном труде и при характеристике творчества Киреевского, и в целом.
В отличие от большинства исследователей творчества Киреевского, выделявших у него два этапа – европейски ориентированный и славянофильский, Флоровский усматривал у Киреевского два сменяющих друг друга типа религиозной ориентации: связанный с разного рода христианскими влияниями, и второй, где отмечается приверженность Киреевского к святоотеческой традиции. Разумеется, Флоровский акцентирует именно второй тип религиозных размышлений Киреевского.
Вместе с тем, верный своему убеждению, что полноценной положительной оценки заслуживают лишь те воззрения, в которых отчётливо проявляется приверженность к православной церковности, Флоровский признаёт за Киреевским, даже периода ориентации последнего на святоотеческую традицию, только ту заслугу, что Киреевскому удалось лишь преодоление религиозного романтизма, но не «воцерковление». [6] Впрочем, учитывая распространённость установок романтической религиозности (религии чувства), это немалая похвала в устах Флоровского.
Что же касается общей методологии Флоровского, явственно представленной и в подразделе «Путей русского богословия», посвященном анализу творчества Киреевского, то Флоровский придерживался общей схемы противопоставления двух видов религиозных установок – православно-церковных и прочих, по-разному их оценивая.
В методологии Флоровского отмечается важность органической связи личной веры с православной церковной традицией; вне такой связи, как показывает история церкви, неизбежна деформация веры и подлинного понимания церковной традиции. С другой стороны понятно, что православная церковная традиция (и любая другая) актуализируется лишь посредством личной веры.
В качестве критерия оценки творческого вклада русских религиозных мыслителей в православную мысль Флоровский рассматривал свою позицию, включающую и безусловную приверженность к традиции православной церковности, и идею неопатристического синтеза – особой православной богословской и религиозно-философской программы, а также христианской культурной политики.
В кратком комментарии эта позиция Флоровского может быть истолкована следующим образом. При общем взгляде на религию по степени критической значимости для существования религии (в данном случае-православного христианства) могут быть условно выделены три проблемно-тематических блока: 1) личность и вера (для субъекта вполне достаточно убеждения в ненужности для него религии, чтобы последняя перестала существовать для него в сфере актуальных смыслов; и, наоборот, сопричастность личности к религии основывается на вере и т.д.); 2) проблематика канонического вероучения (понятия канона, ортодоксии имеют центральное значение в плане истолкования содержания христианского вероучения, разрушение ортодоксии неминуемо ведёт к размыванию содержания вероучения, к кризису веры с содержательной стороны, со стороны вероучения); 3) материальная и организационная инфраструктура религии (разрушение религии с этой стороны также грозит ей гибелью).
Для сохранения религии в равной степени важно устойчивое «воспроизводство» всех трёх вышеуказанных компонентов. В религии спасения может быть обретена вера в спасение, но это невозможно без сохранения самой религии.
Соответственно в позиции религиозно-философской, богословской и т.д., ориентированной на решение этой комплексной задачи, должна быть представлена не только проблематика веры субъекта, но и церковной традиции, ортодоксального вероучения, христианской политики. Любая позиция, ориентированная только на один проблемно-тематический блок религии, т.е. объективно – односторонняя не может рассматриваться как общая.
Флоровский уделял много внимания проблематике православной церковный, традиции и христианской политики, и относительно меньше – проблематике субъекта веры. В этом смысле справедливо признание, что у зрелого Флоровского относительно преобладает такая фундаментальная тема как традиция православной церкви.
В этой связи следует отметить, что достаточно широко распространённая позиция, в соответствие с которой Флоровского рассматривают как рутинного приверженца ортодоксальной православной церковной традиции, исключительно как церковного консерватора неверна, поскольку здесь упускается из вида синтетическая сторона предложенной Флоровским программы неопатристического синтеза, в которой для современности был актуализирован синтез духовной традиции и принципа рефлексии в богословии Г. Паламы, в святоотеческом учении о науках внешних и внутренней, в формуле византийской образованности и т.д.
Впрочем, конечно, нельзя изображать позицию Флоровского так, что в ней весь синтетический потенциал уже актуализирован, содержательно реализован, а не присутствует, в известной мере, латентно, и потому нуждается в дальнейшем раскрытии. О степени содержательной раскрытости синтеза Флоровского свидетельствует эскизный характер самой идеи неопатристического синтеза. В самом деле, основной массив крупных работ Флоровского это историко-богословские труды. Что касается его систематических религиозно-философских и богословских работ, то первых было сравнительно немного, (т.к. главное внимание Флоровский уделял богословию, а не религиозной философии), а вторые в основном были написаны не с целью дальнейшего раскрытия общей программы неопатристического синтеза.
Если в адрес Киреевского Флоровский высказывает критические замечания, в частности, упрекая первого в романтизме, то Хомякова Флоровский не критикует, хотя, как верно отмечал Зеньковский, влияние романтизма испытали и Киреевский и Хомяков. «Заметим тут же, что определение западной культуры как торжества «рационализма», обвинение в этом всего Запада, возникло в XVIII веке на Западе же, в эпоху «предромантизма» (как во Франции, так и в Германии) и перешло к русским мыслителям, как «сама собою разумеющаяся истина». [1, С. 188]
Впрочем, основания различного отношения Флоровского к Киреевскому и Хомякову вполне понятны. У Хомякова Флоровский особо ценил учение о Церкви. В общем историческом контексте позиция Флоровского вполне понятна, он противостоял, в частности, тенденции религиозного субъективизма, явственно обозначившейся в период «нового религиозного сознания».
В советский период российской историографии творчество Киреевского и Хомякова освещалось с идеологических позиций. Особое значение здесь имели труды известного советского историка русской философии З.А. Каменского. В постсоветский период, в рамках возрождения общественного и исследовательского интереса к русской религиозно-философской мысли XIX-XX вв., о творчестве Киреевского и Хомякова выходит много работ, среди которых выделяются книги и статьи отечественных специалистов А.К. Судакова, С.С. Хоружего и др.
Не будет преувеличением утверждение, что у славянофилов наибольший интерес представляют философские взгляды родоначальников направления И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. И.В. Киреевский родился в семье родовитых дворян. Получил хорошее домашнее образование, а в 20-е гг. братья Киреевские брали частные уроки у профессоров Московского университета. И.В. Киреевский посещал лекции профессора Московского университета шеллингианца М.Г. Павлова. В 1822 г. выдержал экзамен при Московском университете для поступления на государственную службу, и с 1824 г. служил в архиве Министерства иностранных дел. В первой половине 20-х гг. был участником «кружка любомудров».
В 1830 г. во время путешествия по Западной Европе слушал лекции Гегеля, Шеллинга, Шлейермахера. Киреевский стремился к «служению отечеству на поприще просвещения народа», однако учреждённый им журнал «Европеец», задуманный как орган такого служения был сразу же закрыт по личному указанию императора Николая I, усмотревшего в статье Киреевского «Девятнадцатый век» пропаганду «опасных идей». После многолетнего литературного молчания Киреевский примкнул к славянофилам и принимал активное участие в полемике с западниками.
А.С. Хомяков происходил из семьи состоятельных поместных дворян Тульской губернии. Получил хорошее домашнее образование. В 1822 году окончил физико-математическое отделение Московского университета. С 1823 по 1825 годы находился на военной службе в кавалерии. После увольнения со службы путешествовал по Европе. Во время русско-турецкой войны в 1828 г. поступил в действующую армию, но в следующем году оставил военную службу и поселился в подмосковном имении; зимние месяцы проводил в Москве. Последующая жизнь Хомякова была посвящена интеллектуальным занятиям, общественной деятельности, кроме того, он много и успешно занимался сельским хозяйством и техническими изобретениями.
Обычно вклад родоначальников славянофильства в развитие русской философской мысли характеризуется как разработка христианской философии. Эта характеристика верна, но, в то же время представляется слишком общей.
Своеобразная, оригинальная сторона религиозной философии родоначальников славянофильства заключалась в опыте обращения к православной традиции, к святоотеческому наследию как к одному из важнейших источников для построения религиозной философии. Особенно отчётливо эта мысль была сформулирована И.В. Киреевским, который полагал, что подлинной и единственной синтетической основой религиозной философии может быть лишь выработанный, в святоотеческой традиции (в «святоотеческой философии») принцип цельного знания, предусматривающий иерархическое сочетание с одной стороны – начал веры, с другой – разума и чувств.
В воззрениях родоначальников славянофильства не менее, чем общие черты, важны и разногласия. И Киреевский, и Хомяков в духе романтизма идеализировали допетровскую Русь, полагая, что ей был присущ особый древнерусский тип просвещения, основанный на православной традиции.
Вместе с тем, если Хомяков видел в древнерусском православном типе просвещения актуальный идеал, значимый и в современную славянофилам эпоху, то Киреевский был настроен более реалистически и полагал, что послепетровский период во всём его содержательном многообразии из российской истории не выбросить, влияния петровских реформ не устранить, поэтому поиск дальнейших путей развития общества, культуры, мировоззрения следует вести не в русле противопоставления допетровских и послепетровских начал русской жизни, но пытаться найти оптимальное соотношение начал допетровских, древнерусских православных и послепетровских, европеизированных. Соответственно, Киреевский выступал против крайностей с одной стороны романтического идеала реставрации допетровского древнерусского православного просвещения, с другой – против тотальной европеизации России, за поиск сбалансированного пути, основанного на установлении в российском обществе, в русской культуре оптимального соотношения начал допетровских, самобытных и европеизированных, западнических.
Именно указанная установка Киреевского, и аналогичные установки у других славянофилов, объясняли противоречивое соотношение начал консервативно-охранительных (принципы самодержавия, народности, общинности, примата морали над правом и др.) и либеральных (рассуждения о правах личности и т.п.) в социально-политическом дискурсе славянофилов. Сами славянофилы не видели в своих воззрениях этого противоречия, однако многим преемниках их уже приходилось совершать выбор: или самодержавие, или правовое государство в форме конституционной монархии и т.д.
Ещё одно важное различие в философских воззрениях Киреевского и Хомякова касается трактовок общего для мыслителей представления о формировании на основе самобытных начал просвещения нового типа, имеющего не только национальное, но и общечеловеческое значение. Различие касалось трактовки самобытных начал русской культуры. В то время как оба мыслителя рассматривали православное христианство в качестве самобытного начала русской жизни, Киреевский считал «истинно православное христианство», «святоотеческую философию» единственным самобытным началом, которое должно быть положено в основание просвещения нового типа. В сравнении с Киреевским, Хомяков шире трактовал самобытные начала русской жизни, включая в них, помимо православия, ещё и «народную жизнь» и принцип общинности. Тем самым в воззрениях Хомякова намечался переход от свойственной Киреевскому «пневматологии самобытности» к разработке «социологии самобытности», которая была впоследствии подробно и основательно развита младшими славянофилами (К.С. Аксаковым, Ю.Ф. Самариным, А. И. Кошелевым, П.В. Киреевским и др.). Здесь дело не только и не столько в различии акцентов. В этом различии акцентов приоткрываются и дальнейшие пути развития русского философского самосознания. Так, спустя десятилетия, последователь И.В. Киреевского в части признания принципиальной важности для русского богословского и религиозно-философского самосознания святоотеческой традиции, Г.В. Флоровский, размышляя об истинном значении славянофильства, противопоставлял национализм истинный, всечеловечества и национализм ложный, своего «культурно-исторического типа».
Киреевский не сразу утвердился на славянофильских позициях, но проделал идейную эволюцию от западничества (период с конца 20-х гг. и до середины 30-х гг.) к славянофильству (с конца 30-х гг. до 1856 года) решающую роль в которой, по мнению исследователей, сыграло углубление религиозных воззрений мыслителя.
Философские воззрения И. В. Киреевского, наиболее полно изложенные в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» включают положение о том, что истинное познание не ограничивается логической рассудочной деятельностью, но предполагает целостность и полноту человеческого духа, достигаемую соединением различных сил человека: веры, рассудка, чувства, т.е. основывается на идее цельного знания.
Существо замысла построения философии на новых началах цельного знания выражает идея православного мышления, которое рассматривается как мышление, восходящее в свободном саморазвитии до сочувственного согласия с верой. Здесь важно сделать акцент на характеристике «свободное саморазвитие». Киреевский не только полагал, что разум человека способен в свободном саморазвитии восходить до сочувственного согласия с верой, но и предполагал возможность свободного самоопределения разума.
В этих мыслях Киреевского можно выделить как его принципиальные религиозно-философские интенции, так и положение о гармоническом взаимодействии веры и разума, предполагающее и возвышение разума до уровня сочувственного согласия с верой и просвещение веры светом разума. Киреевский особо подчёркивал, что православное мышление не должно игнорировать достижения и результаты новейшей западной образованности. Хотя Киреевский и не создал законченной философской системы, высказанные им идеи, были восприняты и развиты русскими религиозными мыслителями XIX – XX вв.
В философском наследии А. С. Хомякова большое место занимает критика философии Гегеля, в которой русский философ усматривал кульминацию традиционной для западной культуры односторонне – рассудочной философско-мировоззренческой ориентации. В ходе анализа философии Гегеля предметом критического анализа Хомякова в первую очередь был принцип тождества понятийного мышления и бытия. Критические аргументы Хомякова развивались в духе традиции трансцендентальной философии: философ отстаивал тезис о том, что действительность сложнее и многограннее понятия об этой действительности. Другой вывод из критических штудий Хомяковым гегелевской философии – указание на её бессубстратность: из первоначала этой философии – чистого бытия невозможно вывести многообразие действительного бытия. По Хомякову этот недостаток можно устранить в том случае, если за основу мира, за сущее принять волящий разум, свободно творящий дух, созидающий мир в акте самопознания, путём объективирования и движения воли, воплощающего идеи Бога в действительность. Эти начала в качестве основы мира характеризуются действительной полнотой, поскольку здесь мысль как полнота мира сочетается с волей – источником и деятельным началом существования мира.
Вторая важная тема критических философских размышлений Хомякова – о материализме как философском мировоззрении. Разрабатывая её, Хомяков подвергает резкой критике попытки материалистической интерпретации учения Гегеля. С точки зрения Хомякова материализм, т.е. утверждение об онтологической реальности как о материальном субстрате вообще с логической точки зрения невозможен, поскольку предметы внешнего мира, доступные ощущению состоят из вещества, которое конечно и делимо, недоступное ощущению не может представлять собой начало материальное, вещественное.
Процесс познания по Хомякову, начинается в вере, происходит восприятие реальных данных, которые сообщаются волей рассудку, высшей же ступенью познания является «всецелый разум». Примечательно, что вслед за представителями немецкой классической философии, различавших рассудок и разум, Хомяков критиковал ограниченность рассудочного познания не с позиций последовательного иррационализма, как, к примеру, поступал Якоби, но с точки зрения разума. Кроме того, на гносеологические построения Хомякова, как впрочем, и на онтологию существенное влияние оказывали его богословские представления – таково учение о познании истины не индивидуальным сознанием, а объединением воцерковлённых личностей, связанных братской любовью. Это учение представляет собой гносеологическое измерение знаменитого хомяковского принципа соборности.
Оценивая общие построения славянофилов, необходимо учитывать, что свойственная славянофилам ориентация на идею единого человечества и признание необходимости соответствия самобытных культурных достижений определенной общечеловеческой потребности теоретически задавали диалогические рамки для проявления энтузиазма и пафоса, рожденного открытием на национальной почве культурных начал высокого достоинства. В самом деле, Киреевский неоднократно отмечал, что русский тип просвещения как раз характеризуется теми началами, в которых испытывает нужду современная западная культура. В такой существенной взаимной соотнесенности русской и западной культур и проявлялся диалогический контекст славянофильской рефлексии. Таким образом, фоном противопоставления русской и западной культур у Киреевского было представление об их, в известном смысле, диалогическом взаимодействии.
На эти мысли Киреевского важно обратить внимание, поскольку в дальнейшем, в частности, в учениях Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, были предложены существенно иные концепции соотношения русской и западной культуры, России и Запада.
Ввиду того, что многие свои мысли Киреевский выразил фрагментарно, конспективно, в исследовательской литературе воззрения Киреевского реконструируются. Не переходя к рассмотрению этой проблемы в целом, т.е. к полному обзору исследовательских реконструкций воззрений Киреевского, обратим внимание на центральное для Киреевского учение о внутренней цельности знания, точнее на одну из его формулировок, в которой речь идёт о двух состояниях личностных сил и способностей: «… в глубине души есть живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого…». [3, С.319.]
Дальнейшие пояснения Киреевского дают повод для неоднозначных толкований. Слова Киреевского об общем средоточии отдельных сил и способностей в глубине души, о слиянии всех отдельных сил «в одно живое и цельное зрение ума» можно понимать не только как единый организм сил и способностей души, в составе которого учтена каждая сила и способность, и которые, в преобразованном относительно своего первоначального эмпирического состояния виде, а и как погружение в единое мистическое состояние, в котором гаснут, теряются особенности, отдельные силы души и т.д. В мистических состояниях сознание преобразуется таким образом, что стирается дифференциация особенного, подчас даже членораздельного (невыразимые состояния), остаётся только целое переживания, которому в содержательном плане может приписываться различная качественная определённость.
С философско-антропологической точки зрения, т.е. в ракурсе аналитики специализированного на философии человека раздела общей философско-мировоззренческой систематики, увлечение мистикой может свидетельствовать не только о потребности получить объяснения, аналогичные философским (как в случае с созерцательной мистикой), но и о стремлении перестроить сферу аффектов. Впрочем, в случае с Киреевским вряд ли можно говорить о каком-либо чрезмерном увлечении мистицизмом.
С другой стороны слова Киреевского можно толковать таким образом, что силы ранее разобщённые, через преобразование, углубление, т.е., по сути, определённым образом трансформированные, дооформленные, входят во взаимодействие (в качестве проработанных, соизмеренных, в учтённых своих границах и возможностях).
Впрочем, смысл рассуждений Киреевского о внутренней цельности знания лучше проясняет указание философа на тезис о добровольном подчинении разума вере. [3] Вместе с тем, Киреевский в полной мере осознаёт сложность последнего тезиса и, по своему, пытается раскрыть эту сложность. Если первая интерпретация носит мистический характер, то вторая – философский (философско-антропологический).
В работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», поясняя идею цельного внутреннего знания, Киреевский говорит о поиске такой установки, в которой была бы невозможна автономия различных сил человека от духовно-нравственного центра. «Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Одним чувством понимают они нравственное; другим – изящное; полезное – опять особым смыслом; истинное понимают они отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда её действие совершится. Каждый путь, как предполагают они, ведёт к последней цели, прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение». [2, С. 274] «Вообще можно сказать, что центр духовного бытия ими не ищется. Западный человек не понимает той живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других; то равновесие внутренней жизни, которое отличает даже самые наружные движения человека, воспитанного в обычных преданиях православного мира, ибо есть в его движениях даже в самые крутые переломы жизни что-то глубоко спокойное, какая-то неискусственная мерность, достоинство и вместе смирение, свидетельствующие о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания. Европеец, напротив того, всегда готовый к крайним порывам, всегда суетливый – когда не театральный, – всегда беспокойный в своих внутренних и внешних движениях, только преднамеренным усилием может придать им искусственную соразмерность». [2, С. 274-275]
Киреевскому важно подчеркнуть, что недостаточно только в умозрении, интеллектуально признать в бытии духовное начало, Бога-Творца, но и в душе человека практически следует найти духовный центр. Это, собственно, личностно акцентированная антинатуралистическая и антирационалистическая онтологическая установка.
Эти размышления Киреевского могут быть прояснены в контексте размышлений о религиозном натурализме (материализме) и рационализме. Наряду с признанием в разного рода религиозных и религиозно-философских учениях общей религиозной картины мира, предусматривающей выведение практических следствий для человека, может быть поставлен и вопрос о том, как именно рассматривается соотношение духовного и материального? В известной мере от содержательной глубины упомянутого рассмотрения, выражающегося и в богатстве следствий, зависит, насколько последние повлияют на убеждения человека.
Киреевский подчёркивал, что православный человек ищет в своей душе, в своей внутренней жизни духовный центр, вокруг которого собираются все силы души, не довольствуясь более поверхностными схемами религиозных воззрений, совместимыми в определённом смысле и с обычным, естественным состоянием ума.
В этой связи также уместен вопрос, какой характер носит практическое углубление в религиозное содержание? Есть точка зрения, что теоретический, однако это не так, если иметь в виду точный смысл термина теоретический. Другая распространённая точка зрения – этический смысл; тем более, что в особенности в Евангелие есть много указаний которые рассматриваются как этические; здесь также важно не упускать из вида феномен «этической рационализации смысла религии». И, наконец, третье мнение – речь идёт о смыслах экзистенциально-психологических и духовно-онтологических. Учение Киреевского о цельном внутреннем знании, скорее всего, следует понимать в русле третьей точки зрения.
Что касается взгляда Киреевского на национальный характер русских и европейцев – православная «умеренность» и европейские «крайности», то следует отметить, что в последующей русской религиозно-философской мысли с легкой руки Ф.М. Достоевского утвердился взгляд прямо противоположный высказанному Киреевским. Теперь русскому национальному характеру приписывается склонность к крайностям, европейцы же в большей мере характеризуются рассудочной умеренностью. В последнем смысле о русском национальном характере вслед за Достоевским рассуждали Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и др. Впрочем, позиции Киреевского и Достоевского несложно примирить, если принять во внимание, что первый рассуждал о православных русских, о человеке православной традиции, акцентируя идеализированный образ православного русского, в то время как второй в основном изображал человека современного типа, переходного времени, утрачивающего почву православной традиции, человека разумно-прагматического поиска, человека в страстях, уходящего или ушедшего с путей веры.
Нужно отметить, что в философской интерпретации учения Киреевского о цельном знании можно говорить не только о ракурсе философско-антропологическом, здесь возможна и более общая интерпретация. В последнем случае речь пойдёт об исходной схеме философского учения, в совокупности его подразделов: гносеологическом, онтологическом, аксиологическом и др. А.К. Судаков в подразделе 6 «Умозрение цельности как христианская философия цельной жизни» в монографии «Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского», реконструируя философские воззрения Киреевского, говорит об идее соединения планов естественного (рационального) и духовного (трансрационального) в сложном иерархическом единстве, основывающемся на видимом господстве духовного момента. [5, С.73-74] Наиболее отчётливо общефилософский смысл основополагающего учения Киреевского о цельности внутреннего знания представлен в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии».
В случае с учением Киреевского о цельном знании, скорее всего, следует говорить, как предполагал ещё В.В. Зеньковский, об ориентации Киреевского на святоотеческое учение о различных состояниях разума в случае ориентации на внешнее, естественное и в случае преобладания в нём внутренних, духовных интересов. [1, С.213]
В связи с философскими исканиями Киреевского, связанными с осмыслением святоотеческого наследия, следует сказать о ещё одном моменте. Киреевский подчёркивал, что в философии (в религиозной философии) совершенно недостаточно рассматривать традиционную для религиозной философии проблему соотношения веры и разума односторонне, а именно, в плане разъяснения различий разума и веры с целью оправдания веры перед лицом разума.
В определённых обстоятельствах не менее важна и другая сторона проблемы соотношения разума и веры – обоснование прав разума, сосуществующего с верой. Важно подчеркнуть, что Киреевский, в определённой мере испытавший влияние эпохи просвещения, не готов забыть и о тех истинах, которые содержится в просветительских максимах о том, что всё в бытии должно предстать перед судом разума, о сне разума, рождающем чудовищ и др., разумеется, без забвения того, что абсолютизированный разум также становится источником серьёзных проблем, как и любое абсолютизированное относительное.
В теоретической установке разум рассматривается как автономный, самодостаточный, в противном случае нарушается само существо теоретической установки, ракурс теоретического разума утрачивается в принципе. Другое дело, рассматривается ли указанная теоретическая установка как единственно возможная также и на общефилософском философско-мировоззренческом уровне. В случае положительного ответа речь идёт о научном, теоретическом философском мировоззрении, сопряжённым с материализмом или с позитивистским метафизическим агностицизмом.
Вопрос о двуплановом рассмотрении проблемы соотношения веры и разума (в ракурсах утверждения, как прав веры, так и разума) рассматривался Киреевским, который, с одной стороны признавал примат веры над разумом в пределах компетенции веры, с другой – отвергал иррационалистическую перспективу отъединения веры от сопряжения с разумом. Разумеется, вера иррациональна, внерациональна по существу. Это вполне понятно. Вопрос не в этом, а в том, каково место веры в философско-мировоззренческой систематике – идёт ли здесь речь исключительно о философии веры (например, в смысле Л. Шестова) или же о философии, в которой наряду с философией веры признаётся необходимым известное сочетание начал веры и разума в интересах полноты онтологической ориентации.
Киреевский выступал сторонником второй позиции. В общем плане могут быть указаны два основания такой позиции. Это опыт его собственных размышлений, в которых ему открылась недостаточность односторонних позиций – философии веры или философии разума. В качестве второго истока указанной позиции Киреевского выступала святоотеческая традиция в аспектах учений о разуме естественном и цельном внутреннем, о человеке внешнем и внутреннем, о науках внешних и внутренней. Соответственно, есть основания усматривать истоки синтетической тенденции, присущей зрелой философии Киреевского в учениях святоотеческой традиции.
Но дело не только в том, чтобы усмотреть необходимость, если можно так выразиться, «двустороннего» сочетания веры и разума, но и в том, чтобы и вера и разум входили в это сочетание в истинных определениях. Важно, чтобы вера входила в это сочетание не только в гносеологическом ракурсе как источник сверхразумных истин, но и непременно бы раскрывалась жизнь человека в вере в библейском смысле как духовный источник жизни наряду с материальным. Соответственно, невозможно обойтись и без рефлексии об истинных определениях разума.
Помимо философско-антропологической (философской) сторон учения Киреевского разработанными сторонами его воззрений являются философско-историческая и социально-философская; последняя представляет собой славянофильское учение в узком социально-политическом смысле, справедливо рассматриваемое в истории общественно-политической мысли, хотя и в последнем случае не обойтись без некоторых уточнений. Дело в том, что одно дело какими были результаты социально-философских размышлений славянофилов о российском обществе, а также то, как они воспринимались и интерпретировались, другое, какими были их намерения, формировавшиеся в том числе и в логике поиска путей христианского преобразования общества, т.е. как минимум здесь можно усматривать подступы к теме христианского обустройства социума. В силу исторических условий в российской историографии на протяжении большей части ХХ века воззрения славянофилов рассматривались преимущественно с этой последней социально-политической стороны, в результате чего время от времени даже требовались специальные разъяснения истинного религиозно-философского смысла славянофильских воззрений. Что касается философско-исторических воззрений Киреевского, то они здесь специально рассматриваться не будут, ибо эти взгляды Киреевского не отсылают прямо к учениям святоотеческой традиции. Ограничимся только краткими замечаниями.
Философско-исторические воззрения Киреевского строились на сопоставлении путей исторического развития Европы и России. Своеобразие исторического пути Европы, по Киреевскому, во многом обусловил заимствованный от античности принцип формальной (отвлечённой) рациональности, повлиявший и на западноевропейское христианство. Влияние принципа формальной рациональности на западноевропейское христианство проявилось в искажении смыслов христианского учения, постепенно приведшее к схизме и другим последствия: к реформации, к утрате христианством искажённым, расколотым, враждующим влияния на общество и культуру, к выходу на первый план отвлечённого разума, его развитию вплоть до возникновения, наряду с тенденцией самоутверждения отвлечённого разума, исторической тенденции его теоретического и мировоззренческого самоограничения.
Западно-христианский мир не сумел найти равновесие принципов христианской традиции и разума, к обретению этого равновесия в определённых тенденциях византийского православия двигался восточно-христианский мир, однако падение Византии привело к забвению или к маргинализации византийских восточно-христианских синтетических тенденций.
«Что же оставалось делать для мыслящей Европы? Возвратиться ещё далее назад, к той первоначальной чистоте этих основных убеждений, в какой они находились прежде влияния на них западноевропейской рассудочности? Возвратиться к этим началам, как они были прежде самого начала западного развития? Это было бы делом почти невозможным для умов, окружённых и проникнутых всеми обольщениями и предрассудками западной образованности. Вот, может быть, почему большая часть мыслителей европейских, не в силах будучи вынести, ни жизни тесно эгоистической, ограниченной чувственными целями и личными соображениями, ни жизни односторонне умственной, прямо противоречащей полноте их умственного сознания, чтобы не оставаться совсем без убеждений и не предаться убеждениям заведомо неистинным, обратились к тому избегу, что каждый начал в своей голове изобретать для всего мира новые общие начала жизни и истины, отыскивая их в личной игре своих мечтательных соображений, мешая новое со старым, невозможное с возможным, отдаваясь безусловно самым неограниченным надеждам, и каждый противореча другому, и каждый требуя общего признания других. Все сделались Колумбами, все пустились открывать новые Америки внутри своего ума, отыскать другое полушарие земли по безграничному морю невозможных надежд, личных предположений и строго силлогистических выводов». [2, С. 253-254]
Многообразие идеологической, философской и культурной жизни в новоевропейский период Киреевский справедливо связывает с эрозией религиозной традиции и выдвижением на первый план отвлечённого разума. Вместе с тем, Киреевский далёк от прямолинейной и упрощённой схемы рассуждения по типу «отход от христианства – возвращение к нему», хотя, разумеется, определённая доля истины в таком рассуждении есть. Как представляется, здесь нужно различать два плана рассмотрения. В одном противопоставляются вера и неверие, и тогда для религиозного философа выбор представляется вполне ясным и определённым. В другом плане на первом месте оказывается спор о путях христианской политики с целью осмысления и преодоления «исторической неудачи» христианства, секуляризации как исторической тенденции первоначально на христианском Западе, а затем и в других христианских странах и в мире. Дискурс Киреевского, а впоследствии и Г.В. Флоровского преимущественно разворачивается во второй плоскости в отличие, к примеру, от воззрений Ф.М. Достоевского, в основном развивавшихся в первом русле, но не исключительно, к слову, размышления Достоевского и первого, и второго плана чрезвычайно важны.
Рассуждая о началах истинного христианства, к которому должен вернуться Запад, Киреевский опирался на православную традицию совместно с религиозной философией, православным мышлением, которое он в свою очередь намеревался утвердить на сочетании принципов святоотеческой традиции и новейших результатов западной образованности. По сути дела Киреевский говорил о новой синтетической творческой задаче, решение которой не могло быть сведено ни к простому возвращению к традиции, ни к выдвижению ещё одной идеологии.
Синтез, к которому был устремлён Киреевский, он пояснял не только посредством высшего понятия цельного знания, в котором утверждалась иерархия понятий гносеологических, этических, эстетических и др. с верхней ступенью веры, но без подмены, замещения исключительно верой этой иерархии ступеней, но и изображая идеальный тип православного верующего, у которого «свободное развитие естественных законов разума не может быть вредно для веры…», ибо вера «для него не слепое понятие, которое потому только в состоянии веры, что не развито естественным разумом…», для которого вера также «не один внешний авторитет, перед которым разум должен слепнуть, но авторитет вместе внешний и внутренний, высшая разумность, живительная для ума». [3, С. 319]
В рассуждениях о цельном знании, о православном мышлении Киреевский пытался сформулировать кардинальную синтетическую идею соотношения веры и разума, традиции и разума таким образом, чтобы указанные понятия, сочетались в синтетической конструкции, взаимодействовали не взаимно разрушительным образом, что являлось задачей новой и сложной.
С этими обращёнными в будущее размышлениями Киреевского можно сравнить замыслы В.С. Соловьёва, который, подобно Киреевскому, был озабочен тем, в каком облике в современной культуре должен быть представлен синтез христианской культуры для распространения христианства, для его нового исторического наступления. В отличие от Киреевского, стремившегося к такому сочетанию понятий традиции, веры и разума, в котором было бы сохранено своеобразие этих понятий, Соловьёв стремился преодолеть «отчуждение» современного ума от христианства путём преодоления несоответствующей христианству неразумной, т.е. традиционной формы. Здесь нужно уточнить, что понятием традиции Киреевский оперировал фактически, сопоставляя традиции западно- и восточно-христианские и т.д., без тематизации проблематики традиции, которая впервые была осуществлена в творчестве родоначальника традиционализма Р. Генона, а впоследствии из дискурса мировоззренческого и идеологического перекочевала в научный гуманитарный.
Соловьев писал: «Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, т.е. разумную, безусловно, форму…». [Цит. по: 4, . С. 126] В отличие от Киреевского, критиковавшего отвлеченную разумность, равно как и другие способности души в отвлечённом состоянии, и стремившегося к поиску модели синтетического иерархического сочетания понятий веры, традиции, разума, Соловьёв рассуждал о «великой задаче» введения христианства в разумную форму в духе рационалистических идеалов времени, не просто критиковал в известных аспектах, возможно, даже во многих (что уместно), но отвергал бытие христианства в «неразумной» форме традиции, фактически стремился к логоцентристскому, просветительского типа замещению традиции разумом, к превращению метафизического разума в основную опору.
Если в философском замысле Киреевского приоткрывались новые интеллектуальные и культурно-исторические горизонты, то замысел Соловьёва представлял собой несколько парадоксальный неосхоластического типа просветительско-христианский синтез, типологически аналогичный новоевропейскому синтезу христиански ориентированного метафизического рационализма (Шеллинг и Гегель).
Следует подчеркнуть, что в осмыслении святоотеческого наследия в творчестве Киреевского и Хомякова, в учении о естественных состояниях ума и внутреннем цельном знании первого и в рассмотрении святоотеческого наследия как церковного сознания при построении философской системы, в указании на тип византийской образованности как сочетания наук внешних и внутренней, духовной, акцент делался на синтетических аспектах святоотеческих учений, сохранивших своё значение для богословских и религиозно-философских построений в современности.
Фактически здесь очерчивалась религиозно-философская программа, складывавшаяся в русле восточно-христианской традиции, но оставшаяся имплицитной. Киреевский сформулировал философскую программу разработки «православного мышления», в которой намеревался совместить традиции восточно-христианскую и философскую, но она осталась нереализованной.
По единодушному мнению исследователей творчества А.С. Хомякова наиболее разработанной стороной религиозно-философских и богословских воззрений мыслителя было учение о Церкви. По Хомякову, Церковь есть целостный организм, богочеловеческое единство; видимая Церковь подчиняется Церкви невидимой. Главный принцип Церкви – не внешняя власть, а соборность как свободное единство христиан. Центральным положением гносеологии Хомякова является утверждение о том, что высшие истины открываются человеку только в Церкви.
По Хомякову, отдельная личность есть «совершенное бессилие и внутренний разлад». В духовном организме Церкви личность обретает себя в более совершенном состоянии. Как и И.В. Киреевский, Хомяков придавал большое значение теме цельности человека. И дело здесь не только в учете полноты состава сущностных сил души, хотя, разумеется, этот вопрос имеет значение, дело в правильном иерархическом построении личности, в правильном распределении сил души в центре и на периферии. И Хомяков, и Киреевский говорили об иерархическом строе сил души, используя различные пространственные образы – «горизонтальный» – центр-периферия (у Хомякова) и «вертикальный» – вера-разум-чувства (у Киреевского).
В отличие от Киреевского, уделявшего внимание проблеме соотношения веры и разума, Хомяков предпочитал говорить о противостоящем рассудку «богообразном разуме», который можно рассматривать как своеобразный сплав разума, веры и воли.
В религиозно-философских исканиях А.С. Хомякова Зеньковский усматривал определенное противоречие. С одной стороны Хомяков стремился провести линию онтологизма в гносеологии, с другой Хомяков широко использовал в своих работах аргументацию трансцендентализма.
В отличие от взглядов И.В. Киреевского, у которого вера рассматривается только как проблематика религиозной веры, у Хомякова вера рассматривается в двух значениях – и как религиозная вера и как вера-интуиция в структуре познания. На трактовку у Хомякова веры в значении интуиции одним из первых обратил внимание Н.О. Лосский: «Под словом «вера» Хомяков очевидно, подразумевает интуицию, т.е. способность непосредственного понимания действительной жизненной реальности, вещей в себе. До него слово «вера» употреблялось в этом смысле в немецкой философии Якоби, а впоследствии в русской – Владимиром Соловьёвым». [4, С. 49]
В заключение следует подчеркнуть, что идею цельности, синтетическую идею можно рассматривать как ключевую в философской интерпретации Киреевским и Хомяковым святоотеческой традиции. Говоря о цельном знании, о христианском эллинизме, о синтетической формуле византийской образованности и, словно отвечая на знаменитый вопрос Льва Шестова: «Афины или Иерусалим?», и Киреевский, и Хомяков утверждают: «И Иерусалим, и Афины; и вера, и разум; и традиция, и разум; и внешние науки, и внутренние», настаивая при этом на восточно-христианском типе синтеза. И в случае с положением Киреевского о внутреннем цельном знании, и с трактовкой Хомяковым святоотеческого наследия и церковного сознания как основы философской системы, акценты делаются на необходимости включения в состав мировоззренческого комплекса начал веры и разума в одном отношении как иерархически выстроенных, с признанием главенства веры в утверждении религиозных смыслов, а в другом – как необходимо взаимодополнительных с признанием их автономии по отношению друг к другу. Что касается различий религиозно-философских воззрений Киреевского и Хомякова, то их нужно интерпретировать как эскизы разных вариантов религиозной философии – «персоналистического», в котором на первый план оказывается проблематика личности и «субстанциалистского», в котором на первом плане оказывается «субстанция» – духовный организм. Впрочем, различие этих вариантов религиозно-философской мысли относительно, это различие только в акцентах – на личность у Киреевского и на «духовный организм» у Хомякова, а не на уровне принципиального содержания, поскольку и верующая личность ориентируется на духовный план бытия, и духовная субстанция значима не иначе, как в религиозной ориентации личности.
Библиографический список
- Зеньковский В.В. История русской философии. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, Харьков: «Фолио», 2001. – 895 с.
- Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Его же. Критика и эстетика. М,: Искусство, 1979. – 439 с.
- Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Его же. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. – 439 с.
- Лосский Н.О. История русской философии. М.: Советский писатель, 1991. – 559 с.
- Судаков А. К. Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского. М.: Институт бизнеса и политики, 2012. С. 73-74.
- Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс: [б.и.] 1991. – 599 с.
- Хоружий С.С. Духовная и культурная традиции в России в их конфликтном взаимоотношении http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_bilingua.pdf (дата обращения 18.01.2020).
- Черняев А.В. От редактора. Флоровский в ХХI веке. // Георгий Васильевич Флоровский. Под. Ред. А.В. Черняева. М.: РОССПЭН,, 2015. – 517 с.